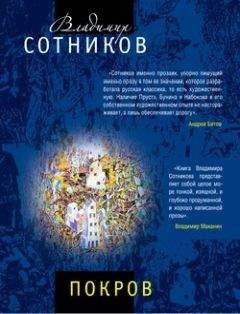Покров над Троицей (СИ) - Васильев Сергей
Ещё никогда литургия святителя Иоанна Златоуста для казначея Троицкого монастыря Иосифа Девочкина не бежала так стремительно, неумолимо приближая встречу, которой он так хотел избежать. Письмо, переданное ему Голохвастовым, c требованием перевести и сообщить об авторе, адресате и содержимом послания, жгло кожу и предательски отвлекало от священнодействия.
"И, взяв хлеб и благодарение, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание(*),' — вслед за братией повторял казначей во время Проскомидии, мыслями блуждая в лабиринтах свалившейся на него задачи и не находя решения, позволяющего закончить дело миром, без жертв и распрей.
Он мгновенно узнал почерк монастырского писаря, а прочитав всего пару фраз, понял, кто являлся составителем, и мучился, чувствуя себя ключиком к ларцу, содержащему чужие секреты. Ему бы слукавить, сказать Голохвастову, мол забыл эту треклятую латынь, но решил быть любезным, услужить и вынужден держать в руках этот немыслимо горячий уголёк, понимая, какой вред он может принести Ксении Годуновой, любимой им по-отечески, почтенно и робко.
Назвать письмо Ивашкиным — смешно! Писарь не мог составить бумагу, имеющую все признаки династического заговора. На кого же показать пальцем, чтобы все остались целы?
Погруженный в тяжёлые думы, Девочкин не заметил, как закончилось чтение Часов и началась Литургия оглашенных, хор антифонно запел псалмы, прозвучала Великая ектения — возможность помолиться за тех, кто дорог.
— Господи, Спаситель наш! — шептал Девочкин истово, — наставь и вразуми, как уберечь рабов твоих Ивана и Ольгу от бесчестья мирского и падения духовного, не преступая законы твои, никого не хуля и не лжесвидетельствуя!..
«Как быть? На кого указать? — металась в голове колючая мысль, — принять на себя?» Но откуда он, скромный келейник, мог знать имена и события придворной московской и европейской жизни? Тогда кто?… Игумен? Келарь? Не то… Не так много в осажденном монастыре людей, имеющих отношение к сильным мира сего. Как ни крути, все дорожки ведут к Годуновой и ее наперснице — королеве-инокине Марфе Старицкой…
Казначей очнулся от своего забытья, когда началась Литургия верных, на престол перенесли Дары с жертвенника и хор затянул Херувимскую песнь. Под призыв возлюбить Святую Троицу и пение «Символа веры» сознание кольнула не оформившаяся идея. «Бог Троицу любит» — вертелась в голове мысль, намекая на созревающее решение.
Диакон опоясался орарем, возгласил «Вонмем», и завеса Царских Врат задёрнулась, напоминая о камне, который был привален ко Гробу Господню. Священник, поднимая Святой Агнец, возгласил «Святая — святым». Присутствующие на литургии ответили: «Един свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца», тем самым сознавая свое недостоинство. Вместе с братией отец Иосиф повторил эти слова, и смутный образ в его голове приобрёл глубину и законченность.
Конечно же! Дорога в монастырь закрыта польско-литовской осадой так же, как был заслонён камнем вход ко Гробу Господню. Тут образовался свой микромир, где есть государь, которому можно всё, и его подданные, обязанные выполнять беспрекословно указания правителя. Властителем на всё время осады является князь Долгоруков, и ему одному не страшны никакие наветы, ибо судить его некому. Выше — только Господь. А что, если сказать Голохвастову, что Ивашка переписывал его письмо? Тогда всё сойдется! Писарь служит ныне у старшего воеводы. Долгоруков, как окольничий, знает в московском Кремле все входы-выходы, да и с посольствами в иноземные страны не раз выезжал, языкам иностранным обучен…
Всё получается складно… «А что в письме?» — «Скажу — не читал всего письма, как понял, кем оно писано. Не пристало скромному келейнику касаться тайн государственных…»
И ничего Голохвастов с Долгоруковым сделать не сможет, ибо сам — его подчиненный. И Ксения не попадёт под подозрение, и писаря выпустят из подвала. Что ж за вина — княжью волю исполнять?
Полностью обдумав план действий, казначей облегченно вздохнул и, наконец, смог сосредоточиться на литургии, подходившей к концу. Он с умилением взирал, как священник разламывает Агнец на четыре части: первую с надписью «IC» — опускает в чашу, вторую с надписью «ХС» — откладывает для причастия священнослужителей, а кусочки с надписями «NI» и «КА» — для мирян.
* * *
После литургии братия ждала, когда вынесут Панагию. «А доколе панагии не вынесут, и ты с места своего не мози ступати», — сказано в уставе монастыря. Слово «Панагия» в переводе с греческого языка значит «Всесвятая». Так обычно именуется Богородица, но в чине Панагии это название относится к просфоре, из которой на литургии изъята частица в честь Пресвятой Богородицы.
История этого монастырского чина уходила в апостольские времена. Согласно церковному преданию, апостолы после Сошествия на них Святаго Духа жили вместе и обычно за столом оставляли незанятое место для Христа, полагая там «укрух» — кусок хлеба. По окончании обеда и благодарственных молитв они поднимали этот укрух со словами: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Велико имя Святой Троицы. Господи Иисусе Христе, помогай нам».
Собранные на Успение Божией Матери и совершив ее погребение, они на третий день сидели вместе за трапезой. Когда после обеда апостолы по своему обыкновению подняли укрух и произнесли «Велико имя…», то увидели в воздухе образ Пресвятой Богородицы, окруженной ангелами. Она обещала всегда пребывать с ними. Тогда апостолы вместо «Господи Иисусе Христе, помогай нам» невольно воскликнули «Пресвятая Богородица, помогай нам».
В этот раз появилась еще одна веская причина задержаться в храме — поблагодарить Богородицу за участие в отражении штурма крепости, за покров, распростертый над обителью, и за чудесное спасение воинства христова в бою с неприятелем, вдесятеро превосходящим по силам. После молитвы монахи вместе с приглашенными по такому случаю военными чинно и обстоятельно переместились в трапезную.
Первым шел священник, служивший литургию, он нес на особом блюде Панагию. За ним следовали игумен и вся братия строго по одному — «един по единому» — с пением 144-го псалма. Войдя в трапезную, священник остановился на правой стороне, читая молитву «Господи, Боже наш, небесный, животворящий…». Иноки стали полукругом. За ними бесформенной толпой сгрудились десятники и сотники, непривычные к долгим монастырским церемониям.
Игумен вынул из Панагии частицу, называемую «Хлебцем Пречистым», произнося тропарь Благовещению Пресвятой Богородицы «Днесь спасению нашему начаток», положил этот хлебец на панагиаре и поставил в трапезной на аналое, прочитав молитву перед вкушением пищи. Наконец, началась трапеза.
— Ангела за трапезой! — произнес вполголоса казначей, присаживаясь рядом с игуменом.
— Спаси, Господи! — поблагодарил келейника Иоасаф.
— Во славу Божию,- завершил Девочкин обязательный этикет.
Некоторое время сидели молча, в трапезной был слышен только монотонный монолог чтеца.
— Что не вкушаешь, отец Иосиф? — игумен скосил глаза в сторону нетронутого варева.
— Благодарствую, — коротко поклонился Девочкин.
— Уж не захворали ли ты, — забеспокоился Иоасаф.
— Нет, отче, Господь миловал, хотя…
Девочкин запнулся, поймав на себе удивленные взгляды иноков. Разговаривать за монастырской трапезой было не принято, ибо она являлась продолжением богослужения и не могла прерываться частными беседами…
— Ты о чем-то хотел спросить, отец Иосиф? — шепнул игумен.
— Нет, ничего… Прости, отче, устал, — вздохнул Девочкин.
— Господь простит, — произнес игумен, глядя с тревогой на прячущего глаза казначея, — или всё ж поведаешь, что гложет?
Девочкин мотнул головой и ещё ниже опустил её. Желание рассказать Иоасафу про треклятое письмо испарилось, и казначей постыдился признаться самому себе, что причиной нежелания делиться с игуменом была боязнь, что тот начнет отговаривать казначея и, таким образом, разрушит хорошо сложившийся в голове план.