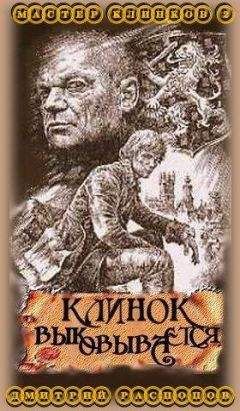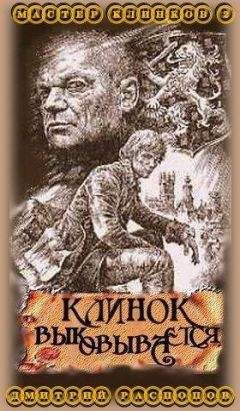Диана Удовиченко - Клинок инквизиции
– Но Кильхен мертва, она не может встать.
– Вервольфы не умирают. А ты, Клинок, лучше бы языком без дела не трепал. Сожги Кильхен, пока не поздно. Некогда мне с тобой говорить, пойду к детям. Нас защитить некому, я вдова, а на тебя надежды нет.
Женщина ушла. Вот это опрос свидетелей получается, уныло подумал Дан. Крестьяне запуганы, обозлены – на душевный разговор их не вывести, придется действовать привычными методами.
В следующий дом он уже вошел с важным видом, положив руку на эфес меча:
– Дело святой инквизиции. Именем Господа приказываю честно отвечать на мои вопросы. За неповиновение – тюрьма.
– Мы ничего не сделали, добрый господин, – задрожала старуха, та самая, которая вчера призывала сжечь Андреаса.
– Я этого не знаю. Может, это ты обернулась волком и убила Кильхен?
– Что ты, добрый господин! – Из мутных глаз потекли слезы, заскользили по бороздкам глубоких морщин. – Кильхен убил ваш человек. А теперь она всех нас сожрет. Проклят Ребедорф…
Дану стало жаль старуху. Да и смысла не было ее запугивать – она и так от ужаса плохо соображала. Он попытался успокоить:
– Не плачь, матушка. Я верю: ты не виновата, не трону. Но что, если это был не наш человек? Если вервольф – кто-то другой?
Бабка от неожиданности даже перестала плакать. Видимо, такая мысль не приходила ей в голову:
– Это кто же?
– Вспомни, матушка: может быть, в деревне кто-нибудь болел недавно? Или вдруг озлобился? На людей бросался? Вел себя как-то не так?
Старуха долго молчала, потом затрясла головой:
– Нет, добрый господин, ничего такого не припомню…
В других домах повторился примерно тот же диалог. Никто ничего не видел, не замечал, не помнил. Дан обошел половину деревни – бесполезно. Перепуганные женщины, дети, жмущиеся к матерям, дрожащие старики. И везде один и тот же страх: скоро Кильхен встанет из гроба, и Ребедорфу придет конец.
Распрощавшись с очередной крестьянкой, Дан вдруг сообразил: ни в одном доме он не видел мужчину. Он не разбирался в деревенской жизни – может, они, конечно, все были заняты какой-то работой. Но какой? Середина осени, урожай давно собран. В лес за дровами ушли? Все сразу?
– Где мужчины? – спросил он в следующем доме.
Хозяйка опустила глаза:
– Возле часовни…
Дану это очень не понравилось. Оставалось надеяться, что еще не поздно…
Часовня стояла на окраине Ребедорфа. Возле входа собралась толпа мужиков с топорами и вилами. Люди тихо переговаривались, спорили о чем-то, подталкивали друг друга. Худощавый остроносый парень за забором тщательно укладывал в кучу ветки и солому, собирая кострище.
– Именем Господа, отвечайте: что здесь происходит? – повелительно спросил Дан.
Крестьяне угрюмо молчали.
– Что происходит? – Дан повысил голос. – Ты! – Он указал на остроносого. – Говори!
– Вервольфа жечь будем, – насупился парень.
– И ты нам не указ! – подхватил пожилой мужчина в грязной рубахе.
Люди осмелели, из толпы раздались еще голоса:
– Ты уедешь, добрый господин, а нам здесь жить!
– И оборотень детишек пожрет!
– Уйди лучше! Не мешай!
– Я не позволю вам лишить несчастную христианского упокоения, – спокойно ответил Дан.
– А мы тебя не спросим, – из толпы выступил высокий парень. Поигрывая топором, остановился напротив Дана. – Уйди, святоша, пока цел.
– Не дам! – истерический вопль. Из часовни вышел Одо, встал у входа, растопырил руки: – Не дам жечь! Кильхен не вервольф! Добрый господин, защитите мою девочку!
– Пошел! – Двое крестьян оттащили старосту, швырнули с крыльца.
– Вы оскверняете дом Божий! – орал Дан. – Именем Господа, остановитесь!
Но обезумевшую от страха толпу уже не останавливала ни мысль о боге, ни присутствие человека из инквизиции. Остроносый парень вытащил из-за пазухи кремень, наложил на него кусочек трута, ударил кованым кресалом. Сноп синеватых искр упал на солому, рассыпался огненной дорожкой, перекинулся на ветки. Вскоре костер запылал.
– Готово!
Четверо мужчин вбежали в часовню, вытащили искалеченный труп в белом платье, понесли к кострищу.
Дан точно знал: этого допускать нельзя. Просто нельзя. Он, представитель церковной власти, обязан остановить самоуправство и как-то унять истерику. Иначе завтра сюда придет отряд ближних, и самим бунтовщикам не поздоровится. Обнажив меч, он встал перед костром.
– Именем Господа, в последний раз приказываю остановиться.
Его обступили со всех сторон. Один крестьянин поднял топор, другой нацелился вилами в грудь. Дан выставил перед собой меч, понимая, что находится на волоске от гибели. Сейчас прозвучит вечное «Бей!» – и его просто растерзают на куски.
– Не по-христиански это! – пробасили за спиной.
Один из мужиков лишился топора, взмыл в воздух и полетел через ограду, прямо на крыльцо часовни. Второй получил мощный удар в бок, согнулся, выпустил из рук вилы. Невесть откуда появившийся Ганс перехватил их обратной стороной, принялся орудовать как дубиной, охаживая бунтовщиков.
– Не по-христиански!
Энгель с мечом наперевес врезался в толпу, раздавая тычки направо и налево. Приставил клинок к шее одного из тех, кто держал Кильхен:
– Верни покойницу на место! Ну! Именем Господа!
Дан расхохотался и присоединился к друзьям, расшвыривая перепуганных людей. Теперь Энгель нравился ему гораздо больше.
– Только не убивайте никого!
– Да кому они нужны? – ответил Энгель, врезав одному из бунтовщиков рукоятью меча по лбу, а другому расквасив локтем нос.
Ошеломленные напором крестьяне отступили, толпа редела: люди разбредались по домам. Кильхен, под слезные благодарности старосты, была водворена в гроб, правда, уже в измятом и грязном платье.
– Вы откуда взялись? – спросил Дан, пожимая друзьям руки.
– Ганс тебе беду стал пророчить, вот мы и сбежали с занятий, – ухмыльнулся Энгель. – Волдо нам еще выдаст…
– А вон и священник пришел, – сказал Ганс.
К часовне быстро шагал человек в черной рясе. Дан решил подождать до похорон. После короткой мессы Кильхен упокоили на кладбище за часовней, недалеко от того места, где нашли ее тело. Пришлось помогать старосте нести и опускать в могилу гроб – никто из деревенских не захотел хоронить вервольфа.
– Смотри! – толкнул Дана Энгель, когда староста, рыдая, принялся забрасывать гроб землей.
За высокими кустами, окружавшими ограду, стояла немолодая женщина в черном платье и черном чепце, пристально смотрела на могилу. Худое, изможденное лицо выражало странное удовольствие, тонкие губы улыбались.
– Кто это? – спросил Дан.
Староста, на мгновение оторвавшись от скорбного занятия, близоруко вгляделся в кусты:
– Вдова Блау. Нехорошая она женщина, добрый господин. Живет на отшибе, ни с кем не здоровается. – Одо перешел на шепот: – Видно, за свежей землей с могилы пришла. Говорят, колдует она, порчу на людей наводит…
Поняв, что ее заметили, женщина развернулась и быстро зашагала прочь. «И знаешь, кем оказался грозный вервольф? Почтенной и богатой вдовой, матерью четырех дочерей», – вспомнился рассказ брата Юргена.
– Покажешь, где ее дом, – распорядился Дан.
Настя
Настя поднялась, подхватила башмаки, на цыпочках подкралась к двери, осторожно, стараясь не скрипеть, отворила, выглянула. В коридоре стояла темнота, она пошла на ощупь, ориентируясь по памяти Одиллии. Без особых приключений добралась до лестницы, спустилась на первый этаж, толкнула входную дверь – заперто на ключ. Вспомнила, что в кухне есть выход для прислуги.
Черный ход тоже оказался заперт. Придется идти к старухе, решила Настя. В лучшем случае удастся украсть ключи, в худшем – отобрать их и сказать, что замуж выходить не намерена. Она собралась уже возвращаться, когда заметила, что из-под двери, ведущей в подвал, пробивается слабый свет. Прислушавшись, уловила теткино бормотание. Что ж, оставался вариант номер два – откровенный разговор.
Настя обулась, потянула дверь, ступила на скользкую лестницу. На стене горел факел, бросая рыжие отблески на ледник, над которым склонилась старуха. Тетка размахивала кухонным топориком – рубила мясо.
Удивившись, с чего бабке пришла фантазия заниматься кухонными заготовками среди ночи, Настя спустилась ниже. Остановилась на середине лестницы, окликнула:
– Тетушка!
Та обернулась – резко, гибким движением, словно молодая. На короткое мгновение ее лицо перекосила гримаса злобы, которая тут же перетекла в добродушную улыбку:
– Деточка? Ты почему не спишь?
– Я ухожу, тетушка. Открой мне дверь.
Старуха отбросила топор:
– Тебе некуда идти, Одильхен. Я нужна тебе, а ты нужна мне. Ступай в свою комнату, деточка… Ступай…
Тетка поднялась на одну ступеньку, на другую… В выражении ее лица было что-то такое, от чего Насте захотелось бежать из подвала со всех ног.
– Ты моя, Одильхен, – говорила старуха. – Еще ступенька… – Моя наследница. – Ступенька…