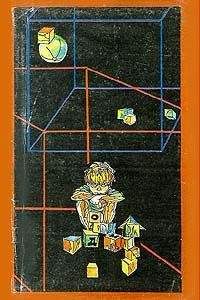Вячеслав Рыбаков - Очаг на башне. Фантастические романы
Не прошло и полутора часов, как они уже вступили на лестницу, по которой им предстояло карабкаться до четвертого этажа. За время пути Ляпишев, который все клянчил, чтобы ему дали отхлебнуть из горлышка, но желаемого так и не получил – Вербицкий подозревал, что не так уж он и страждет, просто отыгрывает давно уже прикипевшую роль, без которой Ляпа оказался бы в компании абсолютно безлик, просто-таки незаметен; и к тому же идти ему пришлось бы самому, а не опираясь то на брезгливо ежащегося Сашеньку, то на кореша Вербицкого, – несколько прочухался, и стало думаться, что до донца первой бутылки, по крайней мере, он сознание сохранит. Но на лестнице он сразу как-то нарочито упал; с ним снова принялись возиться, как с малым дитем, тормошить, предлагать держаться за руку, поднимать за плечи, но он громко отклонял всякую помощь, а только некоторое время потоптался на четвереньках и заявил рыкающим голосом Клавдия: "Я пал, чтоб встать!" И действительно встал минуты через три, опираясь на испещренную надписями и рисунками стену. И даже ключ от квартиры нашел в кармане.
Пока Ляпа совершал все эти сложные эволюции – хотя, уныло поиграл про себя словами Вербицкий, в процессе этих эволюции он отнюдь не эволюционировал, – Сашенька и он сам терпеливо ждали, предлагались помочь и утешали, что уже совсем немножко осталось. Добряк Роткин, вероятно, тоже самоутверждаясь через роль, давно выбранную им для себя – нарочито циничный и вызывающе удачливый, не боящийся говорить друзьям об их промахах и недостатках, но, в сущности, заботливый друг, не обращающий на эти промахи и недостатки ни малейшего внимания, – даже предложил Ляпе хлебнуть из горлышка, если ему всухую никак не подняться до квартиры. И Вербицкому, грешным делом, показалось, что – да, конечно, Сашенька заботливый и попрет мешок по фамилии Ляпишев столько, сколько надо, и туда, куда потребуется; а все-таки Сашеньке сладко, когда Ляпишев теряет человеческий облик. А Ляпе сладко, что тащит его именно чистоплюй Сашенька, и он висит на нем и то и дело говорит: "Вроткин!". Потому они нынче и квасят вместе, прихватив Вербицкого в качестве общего приятеля, то есть амортизатора – в который раз уже квасят. Хотя для стороннего человека эти двое рядом и с одной бутылкой на двоих представляют собою зрелище удивительное и даже, если смотреть под определенным углом зрения, зловещее. Просто-таки фотографируй и публикуй в любом антисемитском издании, и даже никаких коллажей-монтажей не надо – натуральный кадр поразительной силы: "Евреи споили русский народ". Но просто облюбованные каждым из них и уже сросшиеся с ними так, что не оторвать, способы самоутверждения подходили друг к другу, будто вилка и ножик, кромсающие один и тот же ломоть тоски.
Ляпа гордо отказался от по-доброму предложенного Сашенькой глотка: когда просил, не дали, а теперь сам не стану унижаться, пускай, дескать, вам будет хуже. Вот ведь ужас, вконец расфилософствовался Вербицкий, стоя с увесистым от бутылок "дипломатом" в руке; страдал-страдал Ляпа, наверное, от собственной постоянной косноязыкой бестактности, но вместо того, чтобы научиться быть тактичным, научился быть настолько пьяным, чтобы с рук сходило все, что слетает с языка; страдал-страдал от того, что он не очень интересный собеседник и вынужден в основном помалкивать в уголку, – и научился безобразно ужираться, чтобы быть в центре пусть брезгливого, но внимания… Кто бы с ним так цацкался, оставайся он, как пятнадцать лет назад, застенчивым, почти не пьющим, ничем не выделяющимся и не очень быстро соображающим парнишкой, к которому льнут собаки и дети! Теперь собаки его терпеть не могут, запах; да и дети тоже – впрочем, дети у всех нас, у кого были, уж подросли, – но зато его носят на руках, а это ли не мечта литератора?
Простое, непритязательное и даже не очень обильное приятельское возлияние – а в каких глубинных трюмах психики ревут моторы, из каких адских пучин прут с грохотом тысячетонные поршни, надувая и накачивая людей стремлением, что бы они ни делали, делать это заметнее и ярче всех окружающих. Стремление к самодостаточности, которую мы не мыслим иначе, как победу над конкурентами – пусть даже в способности выпить много, пусть даже в способности бескорыстно подставить плечо ближнему своему, все равно – конкурентами… Самостоянье человека! Я! Я! Я! Нет, я!
А я?
Ох, нет, лучше не думать. Лучше выпить. Да что же Ляпа-то так копается?! Собственную дверь уже пять минут открыть не может!
В холостяцкой квартире царил бардак. Пахло тухлятиной и кислятиной, по полу от колыханий воздуха перекатывались, как привидения, лохматые полупрозрачно-серые сгустки пыли. Пыль покрывала и мебель таким плотным белесым слоем, что впору писать неприличные слова, как часто пишут на забрызганных грязью задних стеклах автомобилей и автобусов. Только на письменном столе пыли не было, там вперемешку валялись скомканные и еще не скомканные листы какой-то очередной незаконченной рукописи – ручкописи, как называл это Вербицкий, чтобы отличать от машинописи; и еще словари, справочники, непонятно зачем нужные писателю – синонимов, омонимов, антонимов… зачем-то карта Тихого океана… Господи, да что же это детский писатель Ляпа пытается сляпать такое? Каких детей нынче заинтересуешь Тихим океаном? Всякой этой романтикой? Героическая подлодка "Пионер" давно закончила свой героический ремонт у острова Пасхи, давно всех героически победила и давным-давно, пересекши Пасифик, героически пришла в порт назначения Владивосток – да вот только Владивосток теперь стал столицей другого государства, формально хоть и дружественного, но год от года все откровеннее и все плотнее ориентирующегося на Японию и Южную Корею…
Расположились, как положено угнетенным интеллигентам, на кухне. Вербицкий отворил бутылку, Ляпа тем временем разложил вилки, для вящей чистоты одну из них поскреб ногтем – а только что пятернями по лестнице ходил; потом нырнул в холодильник, чуть не потеряв равновесия и не занырнув в него и впрямь всем телом. Восстановив устойчивость и покопавшись в заледенелых и пустынных, как Антарктида, потрохах – полгода не размораживал, наверное, – он щедро достал единственную банку сардин, протер ее рукавом и водрузил на стол.
– Кто-нибудь откройте! – потребовал он. Наверное, подумал, не в силах остановиться, Вербицкий, у Ляпы с юности были какие-то нелады с консервными ножами. То ли руку повредил и страх остался, то ли забрызгал плеснувшим из разреза маслом новый, только что справленный родителями костюмчик… Но, будь он трезвым, кто бы позволил хозяину дома, гостеприимцу, поставить банку на стол и не открыть? Это же хамство! А так – все в ажуре, и чистоплюй Сашенька послушно, ни слова не говоря, берет консервный нож, изящно одергивает манжеты, в которых ручными – наручными и прирученными – радугами полыхают запонки, и принимается чикать банку; а Ляпа радостно сидит напротив, сцепив ручонки на брюхе, и жмурится от удовольствия…