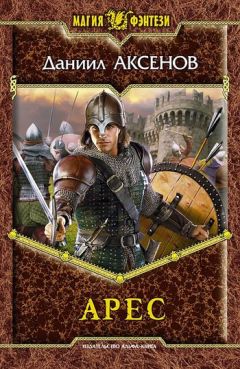Сергей Павлов - Избранные произведения
Веншин подумал, что-то прикинул в уме и наконец ответил:
— Еще сто тысяч километров и, я думаю, будет достаточно.
— Скорлупка не выдержит, — мрачно заметил Акопян. — Мы выполнили заданную нам программу сближения, не знаю, что вам нужно еще… Впрочем, считайте, что я воздержался. Решайте сами. — Он демонстративно встал и пересел в кресло за пультом. — Мало вам космических девушек.
— Итак, шестьдесят? — переспросил Шаров.
— Сто, — спокойно поправил Веншин. — Как минимум.
— Тяжеловато. Теплоприемники перегружены, энерговыброс на пределе… Морозов, дайте схему облета.
Я включил автоматы подсчета и отрегулировал изображение:
— Готово!
Шаров приблизился к экрану вплотную.
— Так… Потребуется два витка. И даже еще шестнадцать градусов. Тяжеловато… Как вы полагаете, Морозов?
Я промолчал. Сейчас только от командира зависит, будем ли мы опускаться ниже предельной отметки или повернем на Меркурий.
Прежде чем высказать свое решение, Шаров несколько раз пересчитал результат. Я и Веншин с одинаковым волнением следили за выражением его лица, хотя наши интересы были прямо противоположны. Мой мозг был перенасыщен недавними впечатлениями, и я не испытывал особого энтузиазма сосредоточиваться на чем-нибудь другом. Я мог сколько угодно называть себя размазней и кисляем, упрекать в забвении долга — все напрасно. Мне хотелось домой.
— Облет по спирали опасен, — сказал командир. — Пройдем по касательной. Вас устраивают полтора часа на пределе снижения?
Веншин развел руками:
— За неимением лучшего…
— Хорошо. Готовьтесь.
Закипела работа. Я меняю кассеты, проверяю нули записывающих устройств, настраиваю аппаратуру. За моей спиной что-то выстукивает цифровой датчик электронного лоцмана, шуршит бумага, туда и обратно, как мячики, летают короткие фразы Шарова и Веншина.
— К экватору ближе нельзя, — говорит командир. — Не имеем права так рисковать.
— Объясните! — недовольным голосом восклицает Веншин.
— Кому нужны экспедиции, из которых не возвращаются?
— Вас пугает возможность непредвиденного выброса?
— Меня пугает то, что ты не вернешься! «Тур» и «Мустанг» не вернулись.
— Между прочим, это я уже слышал. Где же выход?
— Зона спокойной плазмы.
— Значит — полюса… Который из них?
— А это уж вы мне подскажете.
— Лучше, конечно, южный…
— Южный выброс рассеялся?
— Почти.
— Ну, если «почти», тогда — северный.
— Южный.
— Веншин, не упрямьтесь.
— На кой черт мне спокойная плазма?!
— Вам виднее…
— Ну, знаете…
— Будет лучше, если мы превратимся в облако раскаленного газа? Ладно, пройдем по дуге восемьдесят два и пять десятых. Это что-то около двух часов на пределе снижения.
— Так… И склонение — двадцать.
— Шесть, и ни градусом больше.
Веншин долго еще что-то доказывал, возмущался, но я уже не слушал. Глухо грохотали моторы, деловито постукивали вакуумные насосы, тонкий писк эрегообменных устройств вплетался в многоголосый хор включенных приборов. Корабль так же, как и люди, напряженно готовился к решающему броску.
Только что в звездоплавании родился новый термин: «корональные ямы». Авторство принадлежит Акопяну. Его побелевшие пальцы крепко сжимают рычаги управления.
Каждые пять минут командир спрашивает.
— На сетке?
— Шесть! — громко отвечает Акопян. — Градус в градус.
— Баланс режима?
— Четыре нуля! Молекула в молекулу.
— Отлично. Прежний курс.
— Есть прежний курс! До следующей ямы…
Акопян внешне спокоен. Но предательская смена красных и белых пятен на лице выдает его возбуждение. Им, вероятно, овладел азарт пилота…
— Спокойнее, — бросает Шаров, не поворачивая головы.
Его руки неподвижно лежат на рычагах дублирующей системы управления, глаза устремлены в экран.
Мы с Веншиным колдуем над приборами. Некогда даже оглянуться. Но, сверяя показания орбитальных шкал, я получаю возможность взглянуть на экран. Наклонная поверхность экрана испещрена линиями градусной сетки, на фоне которой полыхает пурпурный эллипс. Голова Акопяна мешает смотреть, и я, забыв обо всем, делаю шаг в направлении пульта.
В глубине экрана, под сеткой, кипит зернистая масса, похожая на рисовую кашу. Гранулы. Они снуют на поверхности фотосферы Солнца, как ватные шарики, колеблемые ветерком, — «шарики», имеющие в поперечнике добрую тысячу километров! Это поднимаются из солнечных недр раскаленные массы газа, остывают и опускаются обратно, а на смену им поднимаются новые… Скоро эллипс превратится в окружность, затем начнет расширяться, указывая, что «Бизон» ложится на обратный курс, на Меркурий…
Веншин окликнул меня — он умеет это делать очень тактично — и быстрым жестом занятого человека указал на тубус оптического магнилатора. Я взбираюсь на круглое сидение этого съемочного суперкомбайна и нажимаю ногами педали. Массивный аппарат (он всегда напоминал мне что-то среднее между перископом и зубоврачебным агрегатом) повернулся так, что теперь мне был виден надпультовый экран. Однако особой необходимости смотреть туда не было — ведь у меня теперь был свой экран, хотя и меньших размеров. Я погружаю лицо в пенопластовую мякоть затемняющей маски и впиваюсь глазами в окуляр экспонира.
Ого, мы уже на пределе снижения! Веншин прав: пора начинать последнюю съемку.
Длинные, отведенные в сторону и назад ручки управления повинуются малейшей прихоти оператора, пальцы удобно лежат на вогнутых клавишах переключателей. Нажимая их поочередно, — я знаю каждый клавиш на ощупь, — добиваюсь наиболее резкого, сочного изображения. В эти минуты я думал о людях Земли — будущих зрителях магнитного фильма «Четыреста тысяч километров над поверхностью Солнца». Ну, Алеша, не подкачай! Сейчас все зависит от твоего операторского мастерства… Просмотровый зал набит до отказа. Гаснет свет и… зрители замирают от восторга. Два часа молчаливого, напряженного внимания. Заключительный аккорд, зал выплывает из мрака. Потрясенные зрители долго еще сохраняют молчание. «Простите, кто режиссер-постановщик?» — «Что вы, неужели вам неизвестно?! Участник экспедиции Алексей Морозов» — «Потрясающе! Скажите, а кто оператор?» — «Все он же. Глядите, глядите, вот он выходит на сцену!» Всемирно известные деятели искусства пожимают мне руки, зал сотрясается от бури оваций, девушки несут мне цветы. Я переполнен гордостью, снисходительно киваю в ответ на приветствия, но мне приятно это неистовое изъявление восторгов…