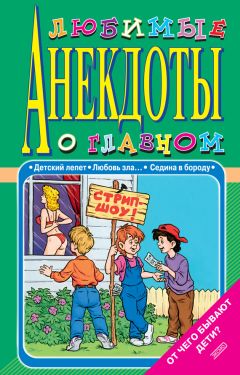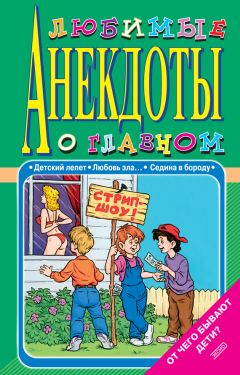Юрий Самусь - Полынный мед (главы из романа)
Серега готов был заорать во всю силушку своих легких, да что-то не получалось, что-то забило горло, вроде чопа — так что и вздохнуть было тяжко.
А потом из люка выглянула голова, лохматая и почему-то в чешуе, белой и блестящей — будто снега на голову насыпало. Впрочем, не это напугало Серегу до полного изнеможения, когда и рук не чувствуешь, и ноги сами собой подгибаются. Испугала его образина, пялившаяся на него мутными глазами-блюдцами. И не удивительно, образина была еще та… вся в бородавках, крючконосая, с усищами, как у сома, красными выкатными глазами, ушами, чем-то схожими с рыбьими плавниками и кривыми козьими рожками.
— Это Волопаевск? — открыв губастую пасть, пробулькала жуткая морда.
Серега, разумеется на вопрос не ответил. А впрочем, от него этого особливо и не ждали. Потому что образина тут же заговорила совершенно на другую тему, причем, по всей видимости, обращаясь сама к себе…
— Уф, — сказала она, выпуская из пасти зловонную струйку. — Едва не заморился. Это ж сколько дерьма там навалено. Жуть! Теперича век придется в болоте откисать да выветриваться. Кака ж русалка после этого со мной захочет… гм. Ну да ладно, все едино ничего не попишешь. Коль Триглав сказал — ослушаться не смей. В пиявку превратит — крякнуть не успеешь. Да… м… Так Волопаевск сие, али нет? Чего молчишь, рожа страхолюдная? Не видишь, к тебе обращаюся?
— Сгинь, — с трудом выдавил из себя Серега, наконец совладав с голосовым своим аппаратом.
— Ну вот, — обиделась образина. — Почитай, лет триста с людьми не встречался, а ничегошеньки не изменилось. Я ж не нечисть какая, чтобы меня да сим похабным словом крыть, я — обыкновенный водяной вида хомо-акватус, рода ухоплавниковых, семейства болотных.
— Изыди! — вспомнив древнее словечко, пролепетал Бубенцов, явно не прислушиваясь к тому, о чем булькало чудище.
— Во, гад! — изумился водяной. — С ним, можно сказать, по человечески беседу ведешь, а он, что ни слово, то матом кроет. Разозлил ты меня, братец, разозлил.
Водяной завозился в люке, задышал усердно и, тужась да упираясь со всей мочи руками в мостовую, с трудом выдернул массивную свою тушу заканчивавшуюся здоровенным рыбьим хвостом из узкой амбразуры канализационного отверстия. Серега как увидел этот хвост, сам позеленел не хуже хозяина болотного.
"И что я здесь стою? — подумал он. — Чего мне здесь надо? Мне в психушку необходимо. Пусть лечат. Пусть кормят таблетками и втыкают в зад разнокалиберные иглы. Лишь бы вот такое больше никогда не мерещилось".
Но тут из-за угла выполз милицейский "бобик". Вспыхнул прожектор и уперся в Серегу, осветив его с головы до пят. Впрочем, луч на нем долго не задержался, а переметнувшись на водяного, замер. Прошла секунда… две… три. Прожектор внезапно угас, взревел двигатель, набирая обороты. Завизжали колеса, бешено загребая под себя асфальт. Через мгновение от милиции остались лишь воспоминания да клубы смрадного, быстро удирающего от греха подальше, дыма.
"Значит, это не бред", — с тоской подумал Серега и рванул вслед за дымом.
— Так Волопаевск это или нет?! — заорал сзади водяной.
Но кричал он напрасно, Серега был уже в двух кварталах от него и все набирал и набирал скорость. Впрочем, когда минут через пять у него кончилось первое дыхание и не включилось второе, он остановился. Сел прямо на асфальт, упираясь спиной о стену двухэтажки, и заплакал. Ему было страшно, как никогда. Даже в детдоме, где воспитатель-садист за разговоры в "тихий час" цеплял на нижнюю губу бельевую прищепку или за просьбу о лишнем кусочке хлеба сек крапивой, не бывало подобного ощущения, леденящего кровь и душу.
Однако, как это свойственно молодым, через минуту Сереге странным образом полегчало, через две — он уже сомневался, что в действительности видел нечто ужасное и всамделишное, через три — поднялся на ноги, растер слезы по щекам и поплелся почему-то в сторону, совершенно противоположную той, куда шел прежде.
Он не видел, как на крыше соседнего дома завозилось что-то огромное и бесформенное. Потом приглушенный бас пробормотал:
— Куда этот салага прет? Ему ж в "Пропой" надо, а не туда.
Тут же запищал другой голос:
— Придется подсобить-с.
— Ага! А потом на кичу. Он в портки наложит или, того похуже, загнется, а нам на нарах из-за него париться? — засомневался третий собеседник.
— Разговорчики в строю! — грянул бас. — Вперед, повзводно, крыльями маш!
И это бесформенное, сорвавшись с крыши, плавно полетело вниз.
А Серега, хоть и взбодрился малость, все равно окончательно придти в себя не мог. Он брел наугад, не обращая внимания, что бредет не на Малаховку, а совершенно даже наоборот. В общем, находился человек в полной прострации, и винить его за это, право же, не стоит.
А тут еще пахнуло ему в затылок горячим воздухом, захлопало что-то за спиной с надрывом развернувшихся на мачтах парусов. Серега оглянулся и обмер. На него, ловко обходя электрические провода, заходил самолет, ритмично взмахивая крыльями и сверкая огоньками работающих пулеметов. Но потом Бубенцов сообразил, что самолеты крыльями не машут, что не придумала наука махолетов, хоть и двадцатый век на исходе, а значит, падало на него нечто иное.
Лишь различив три драконьи головы на длиннющих шеях, Серега понял, что надо спасаться.
Глава третья
Здание, в котором располагалась лаборатория, когда-то занимал птичник. Лет пять назад пернатые обитатели под предлогом нерентабельности производства были сданы на птицекомбинат, и в длинное приземистое здание завезли комбикорм, а после нашествия в Волопаевск инопланетян бывший курятник был сдан в аренду Институту космических проблем. Здание выбрал лично Цезарь Филиппович, мотивируя свое решение отдаленностью помещения от города и близостью к матушке-земле, что, по его мнению, служило гарантией особой чистоты экспериментов. В институте, впрочем, к лаборатории относились насмешливо, за глаза называли ее "отстойником" и с превеликим удовольствием спихивали туда кадры, от которых, по той или иной причине, избавиться окончательно не могли. Попадали сюда и новички, которых в Институте совсем не знали — вроде Алексея Никулина. Для них лаборатория была чем-то вроде отборочного сита: пробьется — значит, будет толк, а нет беда невелика.
Шамошвалов боролся за престиж вверенного ему подразделения, аки лев. Планы научных исследований согласовывал на всех мыслимых и немыслимых уровнях, порой выбирался даже в столицу, ошарашивая привыкших ко многому светил науки неожиданностью аргументов и непредсказуемостью выводов. Многотомные "Отчеты о проделанной работе", с подшитыми "Справками о внедрении" рассылались во все ведущие библиотеки страны. Нелегкое бремя связи с прессой Цезарь Филиппович возложил на собственные плечи, равно как и вопросы благоустройства помещения и территории. Субботники по очистке газонов, складированию вновь поступившего оборудования и покраске забора проводились не реже трех раз в неделю, а по вторникам — в обязательном порядке.