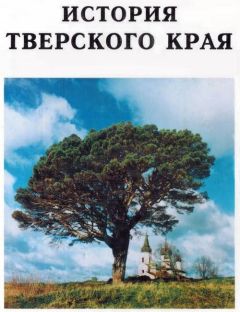Владимир Шибаев - Призрак колобка
«Ну вот, – отчеркнул я. – Аким бьет в десять».
– Но, знаете, Петр… мы мало. Она сдала меня в сад училища рано, я не помню. Еще не было конки, трамваи, чудесное явление, весело бегали и звенели по весне, а не ржали, как сейчас. И эти коняшки, часто не поенные, как они тянут? Воды, ведь… не избыток. В самый раз, – испуганно оглянулась она, но все же коктейль и в ее глаза налил тумана.
– А отец твой какого класса? Хотя это и вправду чепуха.
– Не знаю, – перешла на шепот собутыльница. – Я безотцовщина. Он очень хороший, он лучший. Я его никогда не видела, но один раз… один… Прислал мне на выпускной в Училище… через маму, которая тоже, тоже пришла. Подарок. Чудесный подарок – изумительного крошечного мишу… мишку барби… Тэдди с погремушкой. Я храню, очень храню.
– А кройку с шитьем ты в училище не ведешь?
– Никогда, – решительным жестом отстранилась особа. – Не понимаю в крое, в этом я совсем глупа.
«Да-с, – мелькнуло во мне. – А она миленькая… когда выпьет».
– И чем ты кроме… в Училище?
– Люблю ночь, – опять склонились ко мне перепутанные серые пряди волос девчушки. – Но только с луной во все окно. Тогда сажусь на подоконник и тихо, не вслух, читаю рифмованные слова. Испуг – друг… север да клевер, найдет перемет – поймет и уймет. Всякое. Ну, для девушек важное.
– А под полной луной по подоконнику не фланируешь? Ну, там, на прогулку.
– Бывает, – печально созналась Тоня. – Иногда гуляю. Но далеко не хожу, только в пределах окна. Ночной мир широкий, путаный, заводит в дебри или выносит по ручейку в тишину. Ведь сами знаете, так и заблудишься. Луна, – кивнула Антоннна, – это совсем немногое, что еще есть из природных лекарств у не вполне здоровых людей. Ее круглизна сильнее таблеток, а ее взгляд – даже ярче того… того… ну как из Ваших глаз.
Я крякнул и на последнее со своего ПУКа заказал еще пару коктейлей. Дух зеленого многоголового змия завитал над столом, подмигивая нам по-официантски.
– Я уже пьяна, – умоляюще, глядя на склянки счастливыми глазами, пробормотала девчушка.
Тут на меня набросился пьяный угар, гусарское глупое благородство ухажера разрывало меня, как шашка голову шампанского. Со сценки крикнули:
– Кто еще сегодня читает свой рифмованный отчет о протекании его болезни?
Я опрокинул табурет и нетвердо стал пробираться к сценке, оставив свою соседку в некотором ужасе. Там я уперся ногами в дощатый дырчатый пол, из под которого сквозил запах выдержанной коллекционной мочи, и медленно прокричал в плывущий передо мной зальчик:
– Вонючий хлев. Сижу как лев
Среди тоски свинячей.
Бедлам презрев, ищу напев
Моей луне висячей.
Высокий грот. Никто не врет,
Никто не ссыт, чудача.
Сижу один среди штанин,
Один сижу, не плачу.
Друзей уж нет, кто сыт,
Кто спит в гробу, тем паче
Сижу один среди седин,
Один сижу на даче.
Мне жидко поклацали ладонями, и я стал валиться куда-то вниз, пытаясь подпереться ногами. Антонина, оказавшаяся возле невысокой эстрадки, подхватила меня и поволокла, отдуваясь и охая, к нашему шалашу… столику, а потом впихнула мне в рот кусок бычьего шоколада. На ее ресницах в дерганой подсветке прожекторов разлагались на радугу две слезки.
– Эти стихи тебе, – буркнул я на автомате. – Раскопал на днях в бумажной рухляди конвейера. – Тоня подвинулась ко мне, быстро глянула, а потом впилась губами в мои губы. Но на секунду, на миг.
– А это кто, дача? – чуть задыхаясь, спросила. – Это какая-то Ваша знакомая?
– Да ты что, – поперхнулся я. – Это раньше… давно. Небольшой деревянный, дощатый домишко. На опушке или лугу. Возле забора крапива, запойно пахнет зверобой и мята, или сирень. Женщина сажает или поливает лейкой цветы, метет неровно крашенный пол. Лейка это… Мужчина рубит и пилит дровишки, но пока очень тепло. Тянет из колодца кристальную холодную воду, льющуюся на его кеды. Солнце гладит теплом тишину, в тени яблонь верещат токующие птицы. Дача…
– Уйдем, – глухо сказала девушка. – На воздух.
На площадке перед памятником еще трещали танцы; вдохнув воздуха, я тут же протрезвел. Вдруг объявили лечебный вальс. Девчушка схватила меня и поволокла в круг, где мы взялись водить па: она – вальс, а я – медленное подобие фокстрота. В воздух залпом взвились «Воздушные шары пустых надежд» и стали залпами лопаться в вышине.
Вдруг грянул туш живого оркестра, и все замерло. Потекли, шарахнулись люди. На площадку, расталкивая зевак и вальсирующих, ввалилась толпа бугаев-кретинов, за ней вступила малообозримая группа сопровождающих, так сказать, лиц, впорхнули стаи красавиц, и мы к полному своему восторгу разглядели через головы других появившегося на площади человека. И, господи, этот явившийся конечно был наш НАШЛИД. В белой рубашечке с чуть закатанными руками… рукавами, в брюках.
Взвились фанфары, дрогнули не слишком ровно ранние паркинсонисты-барабанщики, мутузя бока своих натянутых в струнку друзей. Пигалица-недомерка, еле видная из-за огромного букета экспортных роз, высунула из него свою шипастую головку-бутон и подтащила куст к вождю.
– Я бы тоже так смогла, – в подозрительном скепсисе надула Тоня губки.
НАШЛИД схватил букет в одну клешнеобразную ручищу и потянулся к монументу, бароны-князьки и именитые гости робко потянулись следом. НАШЛИД замер, заледенела и толпа.
– А что?! – возвестил спокойный четкий голос руккрая, уплотненный и выплюнутый черными радиоточками, распятыми на столбах. – Что это мы цветы все мертвым… гипсовым тянем? Ребята? Дадим живым и настоящим… – рявкнули радиоточки.
И НАШЛИД бросил пучок роз, оснащенных экспортными шипами, в население. Последнее в восторге завыло, и началась какая-то возле павших цветов возня. Группа ряженных в нацодежды красавиц – расшитая орнаментом украинка, зэчка, смуглянка в шальварах с голыми икрами, безарджанка, женщина-эвенк, стилизованная икряной рыбой – ловко подхватывали у НАШЛИДА мелкие букеты и, шагая широко и танцевально, разошлись разбрасывать розы плебсу. Черные репродукторы бешено рукоплескали и начали чинить здравницы.
Тут вдруг откуда ни возьмись на площадку перед тузами бухнулась на колени полуудушенная в полушалок старушенка в сальном салопе, видно хоронившаяся и затаившаяся до поры среди гипсовых доходяг памятника. И завопила нежданно звонко:
– Отец, матерь родная. Христом. Всея Руси. Голубь ты наша. Не текеть вода. Старая помирает, цветоч ты нашее. Помоги лишенке. Не каплеть, умаялася обстираться. Кошка Дашка преставилася с вони, муся…
Бросились к бабке бойцы-кретины, но отец остановил их движением пальца.
– Откудова сама, бабуля? – спросил громким зычным голосом народный изборник.