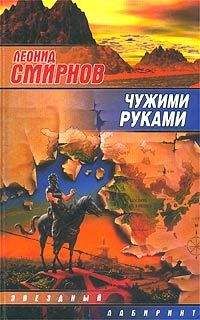Аркадий Львов - Человек с чужими руками
Альберт прежде других заметил перемену в ее настроении.
- Доктор, - сказал он, - я завидую больному, которого вы лечите.
Это была вполне респектабельная шутка, но потому, что он, ее пациент, первый заговорил вслух о ее радужном настроении, она смутилась и, вместо того чтобы тотчас согласиться - да, Альберт, у меня сегодня отличное настроение! - зачем-то стала доказывать, что у нее всегда прекрасное настроение, но лишь сегодня он впервые обратил на это внимание.
- Наверное, - сказал Альберт, улыбаясь, и от этого его полнейшего непротивления она вконец запуталась и принялась лепетать о неких жизнерадостных молодых людях, которые готовы выжимать юмор даже из стеклобетона.
- Из стеклобетона, - очень серьезно заметил Альберт, - трудно, но можно. Творческим усилием - только очень пахнуть будет. А юмор с каплями честного пота на носу - тоже юмор, но не тот, который нам нужен.
- Ладно, - рассмеялась Ягич, - сдаюсь, вы угадали: у меня сегодня чудесное настроение. А у вас?
Альберт вздохнул, тяжело, по-стариковски, и вдруг принялся рассказывать забавную, "очень забавную, доктор, историю":
- Года три назад я лежал в клинике. Был у меня ожог. В соседней палате лежал старик. Старик обварил себе ноги. Хорошо обварил. Было старику сто одиннадцать лет. "Молодой человек, - говорил мне три раза на день этот старик, - если бы я умер на год раньше, у меня были бы совсем новые ноги". Уважаемый отец, отвечал я ему три раза на день, по-моему, это очень обидно - умирать с совсем новыми ногами. "Вы глубоко ошибаетесь, молодой человек, - восклицал старик, - мои новые ноги могли бы через пять лет кому-нибудь пригодиться". По утрам к этому старику с уже не новыми ногами приходил доктор, выстукивал его, выслушивал и делал какие-то заметки в блокноте. Доктор этот любил писать, а старику не терпелось узнать последние известия. Но все-таки он ждал, и, едва доктор кончал свое священнодейство, старик, лучезарно улыбаясь, заглядывал ему в лицо и заговорщически спрашивал: "Ну, доктор, как я себя чувствую?" Старик уверял меня, что помнит, как самолеты сбрасывали на людей бомбы. Старик еще жив, его ноги понадобились ему самому.
- Забавная история, - согласилась Ягич, - но мораль, признаюсь, не ясна мне.
- Мораль? - повторил Альберт, и не было в его голосе ни удивления, ни досады. - Мои руки уже никому не пригодятся. И еще: "Ну, доктор, как я себя чувствую?"
- У вас отличное самочувствие, Альберт, - воскликнула Ягич, может быть, чуть-чуть громче, чем следовало бы.
- А что я делал целый месяц, доктор?
Ягич силилась сохранить непринужденность доктора-оптимиста, но, видимо, она перестаралась, и получилась отвратная интонация хорошенькой девчушки, разыгрывающей легкомыслие:
- Ах, поверхностная летаргия.
- Зачем?
- Профессор так многих лечит. Это дает хорошие результаты.
Ягич уверенно улыбалась, и даже понадобись ей сейчас убрать эту улыбку - она была бы бессильна: тугие резиновые колки прочно фиксировали ее растянутые губы. Вот только глаза... Впрочем, и глаза вроде бы ничего; во всяком случае, она безошибочно уловила мгновение, когда зрачки Альберта, нацеленные в ее глаза, расширились, освобожденные от недоверия и тягостных догадок.
- Хорошо, - сказал Альберт, - но у меня, понимаете, как бы это пояснее выразить, странные ощущения - вроде бы мои руки, которые я вижу, длиннее тех, которые я чувствую. В общем, когда я открываю глаза, кисти оказываются дальше того места, где я рассчитывал их увидеть.
Все еще улыбаясь, Ягич пожала плечами:
- Но в этом ничего особенного нет. Даже у здоровых людей изменяется пространственное восприятие своего тела: иногда руки представляются им непомерно длинными, иногда, напротив, явно укороченными. Перечитайте "Сон д'Аламбера". И обратите внимание: это восемнадцатый век. Мы многое забываем.
- Значит, порядок, доктор: в Мадриде полночь, испанцы могут спать спокойно.
Лицо Альберта было безмятежно, но Ягич никак не могла отделаться от тягостного ощущения незавершенности - не то надо бы сказать еще что-то, не то сделать. Выходя из палаты, она чувствовала на себе взгляд Альберта, и внезапно они сомкнулись, эти два ощущения - незавершенности и чужих глаз. Теперь все стало на место: она не вполне убедила Альберта, и ущемленная его вера индуцировала в ней тягостное ощущение незаконченности.
Она долго колебалась, прежде чем решилась рассказать об этом Валку. Но Валк, сверх всяких ожиданий, принял ее сообщение без эмоций:
- Больные, доктор, всегда немножечко не доверяют врачам. Полное доверие бывает только у людей, не знающих недомоганий. Но им не нужен врач.
- Однако профессору Валку его пациенты верят сполна.
- Да, вкупе с профессором они внушают себе, что верят ему безоговорочно. Как видите, пятый пункт установлен не безнадежными кретинами.
Ягич правильно поняла Валка: теперь она вкупе с ним должна внушить себе, что ей пациент верит тоже безоговорочно. Разумеется, это выходило за пределы пятого пункта, но, в сущности, именно это - абсолютное доверие больного к врачу - было его конечной целью.
Уже к исходу первой недели она почувствовала ту восхитительную твердость, которую дает полное слияние прежде инородной, рациональной воли с физическим "я". Движения ее стали замедленными, походка неторопливой, и, самое удивительное, она постоянно улыбалась. Точнее, это была даже не улыбка, а некая постоянная готовность улыбнуться, и Альберт однажды прямо сказал ей:
- Вы все время сдерживаете улыбку. Зачем?
Да, он был прав: у нее действительно не проходило ощущение внутреннего притормаживания, но ощущение совершенно бесспорное - настолько бесспорное, что не было нужды проверять его целесообразность.
Во всем этом была, однако, и неприятная сторона: уверившись в полном благополучии, Альберт стал крайне нетерпелив. Агрессивно нетерпелив. Хотя ему предписана была полная неподвижность, он чересчур часто, пусть и не всегда предумышленно, пытался переменить положение своего тела. Добиться успеха в этом он все равно не мог бы: тело его было четко фиксировано на койке, - но чрезмерные мышечные усилия его были далеко не безопасны.
- Альберт, - по пяти раз на день увещевала его Ягич, - вы ведь не ребенок. Возьмите себя в руки.
Кстати, в первый раз, прежде чем произнести это метафорическое "возьмите себя в руки", она запнулась. Заметил ли ее заминку Альберт? Пожалуй, нет. Во всяком случае, она предпочла твердо держаться этой версии.
В присутствии Валка Альберт был много сдержаннее. Но трудно было решить, что интенсивнее здесь сказывается - авторитет профессора или авторитет отца. Сам же Валк ни разу не дал понять, что допускает мысль о каком-то ином поведении Альберта. Даже после того как Альберт без обиняков заявил, что ему надоела эта матрацная тюрьма, Валк по-прежнему вел себя так, будто реакции пациента остаются неизменными.