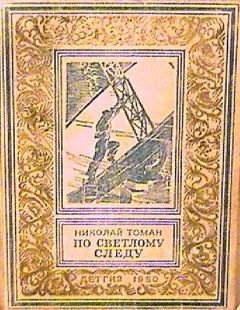Николай Лукин - Судьба открытия
В лавке купил сразу ворох книг: учебники греческого, латинского, сборник речей Цицерона против Катилины, комедии Аристофана, несколько толстых словарей. Книги принес в гостиную тети Капочки и разложил на ломберном столе.
Тетка всполошилась:
— Вовочка, не заболел ли ты?
Племянник отчего-то перестал гулять, потерял аппетит и каждый день сидел за книгами, будто за зиму не успел выучить свои уроки.
И все оказалось зря. Каникулы шли к концу, а Цицерон с Аристофаном остались непонятными почти по-прежнему. Тогда Вовка решил: его способности, наверно, не в языках, а в математике. И, махнув рукой, принялся читать «Айвенго» Вальтера Скотта.
Осенью, вернувшись в корпус, он никому не сказал, что летом занимался по греческому и по латыни.
Всегда нелюдимый, теперь он начал часто прохаживаться по коридорам вдвоем с семиклассником Глебовым. Это удивило окружающих: «Что за пара такая? — думали кадеты. — Чудеса!»
Новые друзья любили рассуждать о больших проблемах.
— Значит, ты уж настолько ценишь роль выдающихся людей? — спросил однажды Глебов.
— Ну, Петр Великий, Александр Македонский… А Архимед, Эвклид? А Христофор Колумб? — перечислял Лисицын. — Вот так я чувствую… — Он заикался, с трудом подбирая слова. — Будто — ночь. Тысячелетия. Беспредельная… в темноте… равнина, что ли. Если осветить ее — мусор, щепки. Ты понимаешь? И каждый гений… над мраком, как снеговая вершина. Те, что строили судьбы человечества, творили историю… науку, ну и все… своей волей делали, свободно, как им хотелось, своим разумом…
— Ишь ты! А я вот не согласен! — воскликнул Глебов. И бросил осуждающе: — Каждый человек — не щепка, не мусор. Человек — это уважения достойно. Например, ты сам — разве щепка?
Лисицын перебирал пальцами пуговицы своего мундира.
— Я не в обиду тебе, — сказал Глебов, заглядывая ему в лицо. — Только подумай хорошенько. Воля гения как раз и не свободна. Способный к действию становится героем лишь при таком непременном условии: когда он выражает интересы народа, когда он самозабвенно служит им. В крупном смысле интересы, с перспективой на долгие годы вперед. Вот так же и в науке… Сложная вещь, правда?
Соображая, Лисицын повторил:
— Сложная, правда…
Они дошли до конца коридора и остановились. Теперь молчали оба.
Глебов вспомнил прошедшее лето, маленькую железнодорожную станцию, где он гостил у Ксени, своей замужней сестры. Бледное северное небо, в палисадниках — кусты желтой акации, на берегу реки — деревянный домик.
Еще с давних-давних времен, с детства, у Глебова была мечта — большая, тайная, скрытая от всех. Он часто слышал разговоры взрослых о его отце. Отец погиб, наказанный царем Александром Вторым. И маленькому Глебову хотелось увидеть новых декабристов, идти с ними на Сенатскую площадь. То он представлял себя атаманом в вольнице Степана Разина, то расспрашивал сестру про Робеспьера и Марата. Есть где-то смелые люди, он слышал; ведь убили же ненавистного ему Александра Второго!
Он рос, но и мечта с годами крепла: где смелые люди-борцы, как их найти? Примут ли они его к себе?
И вот наступило прошлое лето. Никогда оно теперь не забудется.
Сестра, оказывается, в делах конспиративных знала гораздо больше, чем Глебов мог предполагать. К ее мужу, Петру Ильичу, изредка приходили знакомые, запирались в дальней комнате, много курили, говорили вполголоса и тихо расходились поодиночке. Пока они беседовали, Ксеня, бывало, сидит на крыльце, вяжет или шьет что-нибудь. Сидит и посматривает по сторонам.
Очень скоро Глебов понял: здесь не просто гости. Уловил какие-то обрывки фраз. Рядом, вот тут, за стеной, — судьба, которую он ищет.
Он прямо пошел к Петру Ильичу. Тот только усмехался да отшучивался; казалось, из него уже и слова путного не вытянешь. Друг Петра Ильича, Азарий Данилович Фомин, учитель из фабричного поселка, сначала нехорошо поглядывал сквозь пенсне на белые кадетские погоны. Тут на помощь пришла Ксеня. Она шепотом сказала что-то Фомину. Вслух добавила: корпус для брата — единственный способ учиться, иначе на ученье у него денег нет. Тогда Азарий Данилович задумчиво кивнул; с тех пор его взгляд стал теплее и на погонах больше не задерживался.
По ночам Глебов спал на свежем воздухе, на сеновале.
Над сеновалом — небо с непотухающей зарей и еле видные звезды. Близко шумела река. За рекой — болото, темная лесная опушка. Сено шуршащее, пахучее, мягкое.
На тот же сеновал, случалось раз пять-шесть, приходил ночевать и Азарий Данилович.
Бывало так: укрывшись полушубком, поблескивая из-под овчины стеклами пенсне, он начинал говорить — негромко, осторожно, точно нехотя. Потом, увлекаясь, сбрасывал с себя полушубок, садился; речь его звучала уже страстно. Он рассказывал — Глебов слышал это впервые — о причинах бедности и богатства, о прибылях и труде, о великой философии справедливости. Он называл незнакомые Глебову имена Маркса, Энгельса, Плеханова. Наконец его голос становился торжественным. Азарий Данилович переходил к своей любимой теме — о русских рабочих союзах, о первых боях за человеческое счастье, о неизбежной революции.
Перед Глебовым по-новому раскрывался мир. Мысленно он видел Юзовку, Орехово-Зуево, всю огромную Россию, стачки, забастовки, рабочих вождей, которых тюрьмы не могут сломить. Видел Чернышевского, Перовскую, Желябова… Лежал и слушал, затаив дыхание. Понял на всю жизнь: вот оно где, настоящее!
Какая-то птица тогда кричала, точно звала, за рекой. К утру все шире и шире заря…
А теперь — он поглядел вокруг — корпус, коридор, заросшее инеем окно. И этот рыжий мальчик, молодой дружок, стоит, пытливо смотрит.
«Сказать ему, как Азарий Данилович — мне? Нет, наверно, не поймет. Но что ему скажу?»
Глебов выпрямился.
— Дело гения, — с расстановкой проговорил он, — дело истинного героя должно быть всегда полезным человечеству. Всем людям, а особенно простым, рабочим, бедным. Ясно тебе? Вот и делай отсюда, если хочешь, свои выводы.
Вовка подумал: «Всем людям… Верно, пожалуй». И поднял спрашивающий взгляд: а как же стать для всех полезным?
Тут запела труба — горнист затрубил «отбой». Из дверей лавиной ринулись кадеты, появился дежурный офицер.
Глебов, наспех пожелав спокойной ночи, побежал по лестнице на свой этаж.
Позже Лисицын часто вспоминал этот вечер. Мысли с годами становились сложнее, но образ бесконечной темной равнины, над которой редко-редко где вздымаются конусы лучезарных гор, остался в его памяти надолго:
…живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум…
Люди, говорил он себе, не щепки, конечно. Однако у всех ли есть призвание к большим делам, глубокая вера в собственные силы, такая, как вела молодого Ломоносова в Москву и Коперника — к звездам? «Глебов абсолютно прав: дело гения, дело истинного героя должно всегда принадлежать человечеству. И чем больше даст обыкновенным людям человек избранный (при этой мысли Лисицын мог глубоко вздохнуть), тем выше его оценят люди, тем ярче засияет его имя…»