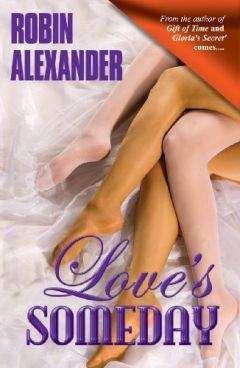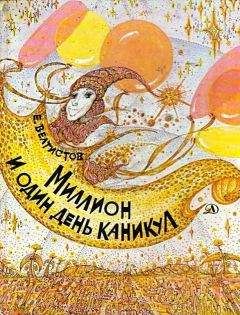Василий Щепетнёв - В ожидании Красной Армии
Музыка — все больше медь и барабаны, а если пели, то бодро, празднично, парадно. Под такие песни маршировать на плацу сподручно, или канавы копать на субботнике.
Лейтенант обернулся скоро.
— Идем, Мартынов.
Полуторка тарахтела, распуская чад. Холостой ход. Холостой год. Бывает.
Лейтенант проверил пломбы на ящиках.
— В кузов.
Ящики тяжелые, запросто не взять.
— Три, четыре! — вдвоем с Лёнчиком рывком вскинули груз, а в кузове его подхватили, принимая, Иваны, уральский и рязанский. Другой ящик полегче, но тоже не для слабосильных.
Следом за ящиками забрался в кузов и он. Иваны перенесли груз в будку, большую, в полкузова, поставили на мат, чтобы не растрясло. Лёнчик снизу подавал винтовки — Иванам, ему, свою, потом и сам залез, качнув грузовик.
Иваны остались в будке, а он с Лёнчиком устроились на скамейке у борта, сдвинул лопатки по ремню. Мешают сидеть.
— За воздухом следите, — напомнил лейтенант, и, не дожидаясь уставного ответа, пошел к кабине.
— Ну, как, не выступил еще товарищ Сталин? — Лёнчик спрашивал, наверное, в десятый раз. Первогодок, резвости много.
— Нет, — ответил Юлиан коротко.
— А почему, как думаете? — не унимался Лёнчик, а Иваны из будки следили внимательно, зорко. — Когда выступит?
— Когда время придет.
Машина тронула, но, проехав всего ничего, остановилась у ворот. Проверка.
— Повезло вам, — Лёнчик счастливо улыбался.
— Повезло?
— Ага. Вам же дебилизация шла.
— Демобилизация.
— Я и говорю, дебилизация. Чуть-чуть, и не застали бы войну. Обидно, небось, было б. А так — повезло.
— Я везучий, — согласился Юлиан. — И с финской повезти успело, и с этой теперь.
— Товарищ сержант, вы как понимаете, возьмем Берлин к Октябрьской? — это из будки Иван уральский. И, как всегда, заспорил Иван рязанский:
— Что к октябрьской, раньше. К жатве управимся. Интересно, какое лето у них в Германии?
— Я не к тебе обращаюсь, деревня. Так как, товарищ сержант?
— Когда надо будет, тогда и возьмем. Прекратить разговорчики.
Ворота раскрылись, и полуторка поехала дальше. Будка прикрывала от ветра, но все равно дышалось трудно, легкие раздувало встречным потоком воздуха, приходилось отворачиваться, чтобы вдохнуть.
— Здорово! — костяшки кистей у Лёнчика побелели, он крепче вцепился в борт, но каждый ухаб добавлял восторга.
— Пилотку сними, сдует, — посоветовал Иван. Лёнчику езда — аттракцион, как и Иванам. Качели с каруселями вместе. Да и сам Юлиан любил такую езду летом, в жару нестись над землей быстрее любого коня, успевай смахивать слезы и смотреть, смотреть, как новое летит навстречу.
Из-за будки обзор был скверным, что впереди — не видать, а позади, за машиной, медленно падал пыльный след. Дождя давно не было. К вечеру соберется. Парит. В движении приятно, а на кухне в наряде?
Юлиан легко отогнал пустые думы. В небо смотреть надо. Воздух.
Но воздух был чистым, свободным. Ни соколов стальных, ни стервятников. Только ласточки, маленькие, живые, порой подлетали к машине, вровень с бортом, протяни руку, твоя, висели неподвижно, а потом, наскучась, уходили в сторону.
Низко стригут. К дождю.
* * *Рассадят стекло, недужные.
Я отложил книгу.
— Иду, — крикнул громко. Стук в окно прекратился. Я посмотрел. Цело окошко, и на том спасибо.
Теперь затряслась дверь.
— Иду, — повторил я.
На пороге эксперт по грибам, Филипп.
— Декабрь настал?
— Нет, я не за тем, — мальчишку колотило.
— Холодно?
— Изнутри. Ерунда. Вадим Валентинович не вернулся!
— Непорядок, согласен. А откуда он не вернулся?
— Не знаю. Но он велел, если к ночи не придет, к вам идти.
Лестно. Но непонятно.
— Ты пришел. Садись, пей чай.
— Не хочу, — отмахнулся Филипп. — Я вам рассказать должен.
— Рассказывай, — я шуровал кочергой в топке, стараясь подольше побыть в неведении.
— Я не хочу жить в интернате. И другие тоже. А нам автобус не дают.
— Не понял, — признался я.
— Где вам. Вы в школу для дураков не ходите.
— Нет, — а про себя подумал: как знать.
— После четвертого класса — второй раз на комиссию. Или в интернат, или в дураках навсегда. Был бы автобус — можно учиться в обычной школе, в районе, а жить тут, дома. И в нашей школе можно много чего сделать. Сейчас еще ничего, а до Вадима Валентиновича учителя нас только дебилами и дураками звали. Чуть что, уши крутят или в угол, у вас, мол, мякина в голове, слов не понимаете. Ничему не учили, один крик. Когда Вадим Валентинович приехал, по другому стало. Интересно, и вообще.
— Поздравляю.
— Чего поздравлять? Я в четвертом классе, мне к лету на комиссию. У совхоза денег нет нас в школу возить. Если резерв не сыщем, так и будем дураками. Или в интернат. Вы знаете, из интерната никто назад не возвращается. Отвыкают, не хотят.
— Погоди, погоди. Какой резерв?
— Это и есть самое главное. Нам Вадим Валентинович рассказал. Не всем, а мне, Витальку и Нюрке. Для остальных мы партизанской тропой идем.
Я посмотрел на часы. Поздно, оттого и тупой я. Мне русским языком говорят, а о чем говорят — не пойму.
Филипп догадался о моих трудностях.
— Сейчас я все объясню. Вадим Валентинович разрешил вам рассказать, если с ним что случится.
— Случилось?
— Не знаю, — вздохнул мальчик. — Но он велел рассказать, если будет отсутствовать больше дня. Суток.
Я начинал закипать, но виду не подавал, держался. Поставил чайник на плиту, пусть тоже покипит.
— Резерв — это золото, драгоценности. И они спрятаны неподалеку.
— Клад, значит.
— Нет. Клады — сказочки. А резервы есть на самом деле. Вадим Валентинович историю хорошо знает. Сразу после революции красные много сокровищ попрятали, на случай, если белые победят. Они все время чего-то боялись и прятали, на черный день. Особенно Сталин. Когда с немцами война началась, он приказал делать новые резервы, тайные. Для партизан, чтобы фашистов подкупать. Один купленный фашист роты стоит, говорил он. Но о главных, о больших резервах знал он один.
— Что, сам закапывал?
— Закапывал, конечно, не он, — терпеливо объяснял Филипп, — прятали чекисты. По его личному указанию. А потом тех чекистов убивали другие чекисты, как врагов народа. А других чекистов — третьи, и следов не оставалось.
— Не оставалось, — тупо повторил я. Хороводы чекистов кружили в глазах.
— Во время войны почти все резервы сберегли. А какие он рассекретил, дал командирам партизанских отрядов, самых больших, так тех командиров он приказал убить. Вывозили их в Москву самолетами и казнили. Чтобы проговориться не могли. У него, Сталина, были и особые резервы, на случай поражения. Так и не рассекречены до сих пор.