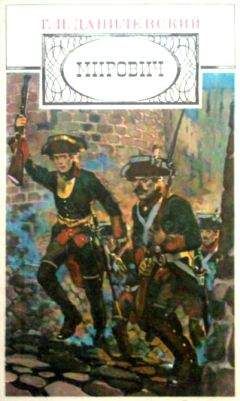Григорий Данилевский - Сожженная Москва
Ярко светил месяц. Влажный воздух сада был напоен запахом листвы и цветов. Прямая, широкая липовая аллея вела от ограды двора к пруду, окаймленному зеленою поляною, с сюрпризами, гротами, фонтанами и грядками выраженных из теплиц цветущих нарциссов, жонкилей и барской спеси. Сквозь ограду виднелись освещенные и открытые окна дома, откуда доносились звуки пения. В саду было тихо. Каждая дорожка, каждое дерево и куст веяли таинственным сумраком и благоуханием.
Увидя Перовского, Аврора хотела было идти к воротам. Он ее остановил.
— Вы здесь? — сказал Базиль, восторженно глядя на нее. Аврора, казалось, подбирала слова.
— Вот что, — проговорила она, — о войне и ее виновнике… они у всех теперь в мыслях… давно я собиралась вам это передать… Прошлым летом с Архаровыми я ездила в их подмосковную. Там собрание картин, и я, помню, в особенности засмотрелась на одну. На ней изображена охота в окрестностях Парижа, в парке, на оленей. Превосходная копия с работы какого-то знаменитого французского живописца. Ах, что за картина! ну, живые люди; а скалы, ручей, деревья…
— У Архаровых действительно отличная картинная галерея.
— Нет, послушайте: справа, на поляне, за оленем, стая озлобленных гончих. Он изнемогает, напряг последние силы и спасся бы… но наперерез ему… беда слева: в ожидании оленя стоит спрятанный за деревьями стрелок. Его окружают верхами пышные, в золоте, придворные и, в открытых колясках, под зонтиками, красивые, нарядные дамы. Стрелок — Наполеон… Он в синем мундире, белом камзоле и в треуголке; как теперь его вижу: толстый, круглый, счастливый и крепкий, точно каменный.
— Именно каменный, — сказал, вздохнув, Перовский.
— Его полное, смуглое лицо самодовольно, — продолжала Аврора. Он спокойно прицелился и чуть не в упор стреляет в бедное, с высунутым языком и блуждающими глазами животное… Фу! Я видела не раз, бывала на охоте, но тогда же я сказала Элиз Архаровой: «Какой дурной и жестокий этот всеми прославленный человек!» Ну можно ли так равнодушно-спокойно и так безжалостно убивать слабое, изнемогающее в побеге, живое существо?! Он так же расстрелял и герцога Ангиенского… Аврора в волнении смолкла.
— Вы правы… клянусь, это жестокий человек! — сказал Перовский. — Мы ему отплатим за все его вероломства. Ему вспомнятся лживые заверения Тильзита и Эрфурта. Я заблуждался, был слеп… говорю это теперь не с чужого голоса и не стыжусь за то, что говорю; я еду с твердым убеждением, что наши жертвы, наши усилия сломят врага… Одно горе… Перовский смешался и замолчал. Аврора с трепетом ожидала чего-то необычайного, страшного.
— Вы меня простите, — проговорил вдруг упавшим голосом Перовский, — я еду и, может быть, навсегда… но это выше моих сил…
Аврора с замиранием вслушивалась в его слова. Ее сердце билось шибко.
— Я не могу, я должен сказать, — продолжал Базиль. — Я вас люблю, и потому…
Аврора молчала. Свет померк в ее глазах. После минутной борьбы она робко протянула руку Перовскому. Тот в безумном восторге осыпал эту руку поцелуями.
— Как? вы согласны? вы…
— Да, я ваша… твоя, — прошептала, склонясь, Аврора.
Они снова углубились в сад. Перовский говорил Авроре о своих чувствах, о том, как он с первого знакомства горячо ее полюбил и не решался объясниться.
— Все ли ты обо мне знаешь? — спросил Базиль. — Я — Перовский, но мой отец носит другое имя.
Он передал Авроре о своем прошлом. Она, идя рядом с ним, молча слушала его признания.
— Зачем ты мне это сказал? — спросила она, когда он кончил исповедь.
— Чтобы ты знала все, что касается меня. Это тайна не моя, моего отца, и я должен был ее хранить от всех, но не от тебя…
Аврора с чувством пожала руку Перовского.
— Так ты — сын министра? — сказала она, подумав. — Что же? Я рада за твоего отца, но, прости, не за тебя… Почему твой отец из этого делает тайну?
Перовский сослался на обычаи света, на положение отца.
— Ты любишь свою мать? — спросила Аврора.
— Еще бы!.. всем сердцем, горячо.
— И она хорошая мать, добра, заботилась о тебе?
Базиль рассказал о своих детских годах в Малороссии, о свидании в деревне с отцом, пред отъездом в ученье, о пребывании в университете и о поступлении на службу в Петербург.
— И ты, с отъезда из деревни, не видел отца?
— Видел в Петербурге.
— И он не оставил тебя при себе?
Базиль молчал.
— Я так же горячо, как и ты, полюблю твою матушку! — сказала Аврора. — Но тебя узнает и, нет сомнения, ближе оценит и твой отец; не может быть, чтобы он тобою не гордился, тобою не жил.
Из-за ограды раздался голос слуги княгини, Власа:
— Барышня, бабушка вас зовут… Мелецкие уезжают…
— Постой, еще слово, — проговорил Перовский, не выпуская руки Авроры. — Подари мне на память какую-нибудь безделицу… ну, хоть этот цветок.
Аврора вырвала из пучка сирени, приколотого к ее труди, цветущую ветку и подала ее Перовскому.
— Есть у тебя твой портрет? — спросила она.
— Есть миниатюрный, работа Ильи… я хотел завтра его послать матери в Почеп, но для тебя…
— Отлично, Илья Борисович снимет мне копию…
— Нет, нет! — вскрикнул Перовский. — Возьми этот! Он готов… со мной! Вот он… я сегодня утром получил его из отделки.
Он подал Авроре медальон с крошечным своим акварельным портретом. Она взглянула на портрет и прижала его к груди.
— Барышня, да где же вы? — раздался от ворот голос экономки Маремьяши.
Аврора спрятала медальон под корсаж платья и, отирая слезы, направилась из сада. Она, об руку с Перовским, возвратилась в дом, откуда уже начали разъезжаться.
— Ну, теперь иди к бабушке, — сказала она, сморщив носик, — и делай формальное предложение: иначе нельзя… как можно, обидится, еще откажет.
Базиль было направился в гостиную. Аврора остановила его.
— Нет, — объявила она, выпрямляясь, — пойдем вместе.
Сильно побледнев и ни на кого не глядя, она твердо прошла через ряд комнат, подвела Перовского к бабке, окруженной у двери в молельню прощавшимися гостями, и, держа его за руку, тихо проговорила:
— Дорогая бабушка, вот мой жених.
Княгиня обомлела.
— Да как же это, не спросясь? Да что же и ты, как смел? обратилась было княгиня к Перовскому, но тут же, едва сдерживая слезы, она обняла его, обняла и упавшую перед ней на колени Аврору, крестила их и целовала.
— В мать! в мать! смела и мила! — твердила она, смеясь и плача. Ох, родные мои, любите друг друга и будьте счастливы!
Разъезд гостей приостановился. Все радовались счастливой развязке романа Авроры. Потребовали шампанского, и помолвка сговоренных была полита обильными тостами.