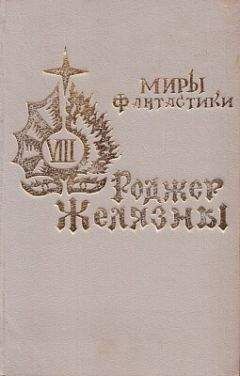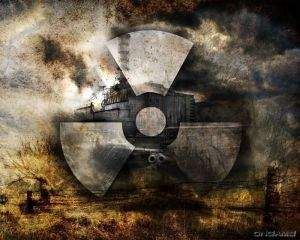Сергей Абрамов - Рай без памяти
— Объясни кошке таблицу умножения, — хихикнул Толька Дьячук. — Ты же гуманитарий, Юрочка. Тебе нужна ветка сирени в космосе.
Зернов только посмотрел на него, и шансонье, кашлянув, мгновенно умолк.
— Топология, друзья, — Зернов перешел на английский специально для Мартина, — это область геометрии, рассматривающая свойства различных пространств в их взаимных сочетаниях. Это могут быть свойства и деформируемых геометрических фигур, вроде архитектуры Би-центра, и взаимно связанных космических пространств, если их рассматривать как геометрические фигуры. Рассуждая топологически, можно предположить, что от покинутой нами Земли-бис нас отделяют не парсеки, а только «связки», создающие своеобразную поверхность касания. Вероятно, такая поверхность включает весь земной шар с его биосферой, а уж точку на карте можно выбрать любую — твоей даче попросту повезло: она собрала всех нас.
— А как они узнали об этом? — хмыкнул Толька. — Опять телепатия? Через второго Анохина?
— А как они нашли нас в Париже? Как наблюдали за нами во время опытов? И как вообще они творили свои божеские дела, повергая в смущение всех служителей Господа Бога на земном шаре? Загадка, Толя, не для наших умишек. Кстати, чего хочет от нас этот человек у калитки?
Я спустился в сад и узнал почтальона. Он держал запечатанную телеграмму, но почему-то не отдавал ее. Великое изумление читалось на его лице.
— Десять минут назад проходил, смотрел, кричал — никого у вас не было. Обратно по той стороне шел. Остановился у акимовского забора, глянул к вам — опять никого. Ну, передал заказное, расписались. Минуты не прошло. А у вас на терраске полный парад. Ни машин, ни людей кругом не было. Со станции не время — поездов сейчас нет. Откуда же вы взялись? С неба, что ли?
— Съемку ведем, — мрачно придумал я: не рассказывать же ему обо всем. — Видишь, мундир на мне? А отсвет зеркал создает невидимость.
— А где ж аппарат? — все еще сомневался он.
— Скрытой камерой снимаем, — отрезал я. — Давай телеграмму.
Ирина телеграфировала, что возвращается из командировки вместе с академиком.
— Ну что? — хором спросили меня на веранде.
— Приезжают.
Но поджидавших меня интересовало другое.
— Что ты сказал этому типу?
— Соврал что-то.
— Вот и придется врать, — угрюмо заметил Толька. — Кто ж поверит? Липа. В институте меня засмеют или выгонят.
— В газету, пожалуй, дать можно, — задумался Мартин: думал он, конечно, об американской газете и оценивал перспективы возможной сенсации. — Возьмут и напечатают. Даже с аншлагом. А поверить — нет, не поверят.
Говорили мы трое, Зернов молчал.
— А все-таки жаль было расставаться с этой планеткой, — вдруг произнес он с совсем не свойственной ему лирически-грустной ноткой. — Ведь они нас обгонят. С такими перспективами, как в Би-центре…
— Нефти у них нет, — пренебрежительно заметил Мартин.
— И кино, — сказал я.
— Кино — чепуха. С безлинзовой оптикой они создадут нечто более совершенное. И нефть найдут. Ведь они моря не видели. Сейчас у них начнется эпоха открытий. Возрождение в современном его преломлении и промышленная революция. Время Колумбов и Резерфордов.
— А я бы совсем там остался, — сказал Толька. — Лишь бы не песни петь. Для настоящего дела. Метеослужбе бы научил для начала. А там, смотри, до прогнозов бы дотянулись.
Он рассчитывал на поддержку Зернова, но именно Зернов его и добил:
— Нет, Толя. Долго бы вы там не прожили. Ни вы, ни мы. Не такого мы рода-племени. Похожие, но другие.
— Что вы меня разыгрываете, Борис Аркадьевич, — обиделся Толька. — Три месяца бок о бок с ними прожили. Из одной миски, как говорится, щи хлебали. Что мы, что они. Такие же люди.
— Не такие, Толя. Другие. Я уже говорил как-то, что, моделируя высшую форму белковой жизни, эти так и не разгаданные нами экспериментаторы, грубо говоря, подправляли природу, генетический код. Выделяли главное в человеке, его духовную сущность, остальное отсеивали. Но потом мне пришла в голову мысль, что они вносили поправки даже в анатомию и физиологию человека. Однажды я наблюдал, как брился Томпсон. Брился, как в парикмахерской, опасной бритвой. Брился и порезался, да так, что кровь полщеки залила. Спрашиваю: «Йод есть?» А он: «Зачем?» Вытер кровь полотенцем, и конец — никакого кровотечения. Мгновенная сворачиваемость крови. Я удивился. «Только у вас?» — говорю. «Почему у меня — у всех. У нас даже тяжелые раны почти не кровоточат». А вы обратили внимание, что тамошний Томпсон моложе земного? И морщин меньше, и не сутулится. А потом подметил, что у них вообще нет ни морщинистых, ни лысых. Я специально бродил по улицам, разыскивая стариков и старух. Я встречал их, конечно, но не видел среди них дряхлых, согнутых, обезображенных старостью. Ни одному из них ни по цвету лица, ни по ритму походки нельзя было дать больше пятидесяти. Полностью побежденная старость? Не думаю. Но их багровый газ, как первичная материя жизни, вероятно, таит в себе какие-то возможности самообновления организма или задерживает старческое перерождение тканей. И еще: я говорил с детским врачом. У них нет специфически детских болезней. Он даже не знал, что такое корь или скарлатина. Только простудные формы, последствия переохлаждения организма или желудочные заболевания: питаются ведь там хоть и моделированными, но земными продуктами — вот и весь объем тамошней терапии. Возможно, что и рак побежден: проникнув в тайны живой клетки, не так уж трудно устранить злокачественные ее изменения, но гадать не буду — не узнал. А может быть, у них вообще другой сорт молекул.
— Хватил, — сказал я.
— Ничуть. Человек больше чем на две трети состоит из воды. А недавно в одной из наших лабораторий как раз и обнаружили воду с другим молекулярным составом. При низких температурах не замерзает, а в обычной воде не растворяется. Вода и вода. Человек и человек. Химический состав один, а физика разная. Так что, Толя, ни я, ни вы рядом с ними не выживем. А то как бы на старости лет не отправили нас в какой-нибудь атомный переплав.
— А книги? — вдруг вспомнил Мартин.
Книг на столе уже не было. Ни одной. И никто не видал даже тени протянувшейся из другого мира руки.
— Я что-то заметил, — неуверенно продолжал Мартин, — словно облачко поднялось над столом. Совсем-совсем прозрачное, еле видимое — клочок тумана или водяной пыли. А может быть, мне это просто показалось.
Тоскливое молчание связало нас. Так Робинзон Крузо уже на спасшем его паруснике прощался с оставленным островом. Говорить ему, как и нам, не хотелось. Что-то ушло из жизни. И навсегда.