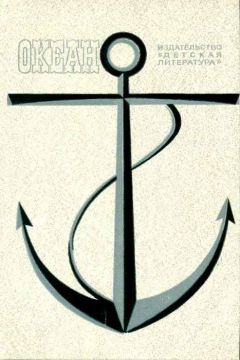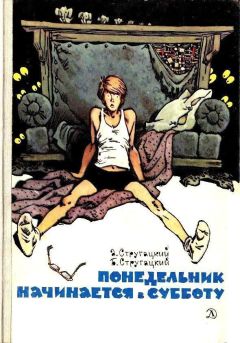Станислав Гагарин - Разум океана. Возвращение в Итаку
Во время войны я был заброшен с группой товарищей в немецкий тыл. Нам предстояло выручить нашего крупного разведчика, доверху набитого важными сведениями и случайно попавшего в лапы гестаповцев вместе с несколькими партизанами. Одетые в эсэсовскую форму, мы — я и еще четверо моих товарищей — появились на площади белорусского городка, оккупированного фашистами. На площади стояла большая толпа местных жителей, согнанных карателями на публичную казнь. Общая виселица, с перекладины которой свешивались девять петель, возвышалась над головами окружавших ее солдат охраны, над женщинами и стариками.
В кармане у меня лежал приказ начальника гестапо о передаче мне разведчика, числившегося у немцев рядовым партизаном по фамилии Лисицын. Остальных должны были выручить парни из партизанского отряда, с которым мы установили связь и действовали сообща…
Мы подъехали в крытой машине, я подошел к офицеру, руководившему расправой над патриотами, представился и протянул приказ. Он ознакомился с ним, проверил мои документы, сделал охране знак рукой, и Лисицына — им оказался третий справа — свели с эшафота. Оставалось дать офицеру расписку, посадить нашего человека в машину и умчаться из города туда, куда ночью за нами должен был прийти самолет.
Но…
Неожиданно из толпы вырвалась женщина, сбила с ног преградившего ей дорогу солдата и с криком «Игнат!» бросилась ко мне. Увидев ее, я похолодел… Женщина протянула руки, чтобы обхватить меня, а я со словами «Руссише швайн!» сильно толкнул ее. Она упала в грязь. Подскочили солдаты и поволокли ее в сторону. Но от офицера, видимо, не укрылось мое короткое замешательство. Он положил руку на кобуру пистолета, остановил меня жестом и снова развернул приказ. Бумага была липовой, и медлить было нельзя. Я тут же всадил в эсэсовца пулю и бросился к машине. Ребята втолкнули Лисицына в кузов и прямо оттуда открыли огонь по ошеломленным солдатам. Толпа расступилась, машина рванулась с площади. Я видел, как стали прыгать с помоста приговоренные к смерти партизаны, и услышал справа стрельбу и крики «Ура!»
Это вступил в дело местный партизанский отряд. Все шло пока хорошо, но на выходе из города дорогу нашей машине преградил немецкий бронетранспортер. Мы выскочили под пулеметным огнем и стали пробиваться к лесу. Лисицын держался рядом со мной. Товарищи позади прикрывали нас. Вдвоем мы достигли кромки леса, позади все еще слышалась перестрелка. И тут человек, ради которого мы рисковали, напоролся на мину. Вот и стечение обстоятельств… Я был неподалеку, и взрывом меня контузило.
Не помню, как очутился я в партизанском отряде. Ребята говорили, что я повстречался им километров за десять от города, бредущий среди зарослей в изорванном немецком мундире, босой и матерящийся на весь лес на чистом русском языке. Меня опознали парни, бывшие на площади, они стояли среди жителей и видели, как я стрелял в офицера. Потом партизаны связались с Большой землей и отправили меня в Москву…
— А женщина? — спросил я.
Загладин не ответил. Минуту-другую смотрел он прямо перед собой невидящими глазами и вздрогнул, когда я повторил вопрос.
— Женщина, — сказал он. — Это была моя жена, Волков. Она не успела эвакуироваться с дочерью на восток, и я не знал о них ничего с лета сорок первого года.
— Но почему же она?… — начал я.
— Не знаю. Потом побывал в том городе снова, расспрашивал… Сказали, что после нашего налета жена попала в гестапо. Ее долго допрашивали, пытали и расстреляли за городом с группой других заключенных. Сейчас там братская могила.
— А что было с вами?
— Обо всем случившемся я доложил начальству. В рапорте написал: объективно считаю себя виновником срыва операции… Если б не опознала меня жена… Главное, я не доставил Лисицына. Начальство возлагало на него серьезные надежды. А товарищи мои погибли. Троих застрелили, четвертый оставил последнюю пулю себе. А я живу, Волков, живу до сих пор…
— Но вы не могли ведь знать, что ваша жена…
— Не мог. Но так или иначе я виноват в гибели своих товарищей. Понимаешь, Волков, погибли-то они из-за меня…
Он замолчал, потом поднялся:
— Хотели снять тебя со старших дневальных, но я убедил оставить… Будет как прежде. А за фокус свой десяток деньков отсиди, прочувствуй, Волков, тебе не вредно, и отдохнешь от барака в одиночке. Еды хватает?
— Вполне. Спасибо, Игнатий Кузьмич.
— Ладно уж. Вот курево возьми, я скажу, чтоб разрешили подымить…
Он вынул из кармана пачку «Беломора», добавил к ней спички и протянул мне.
— Выйдешь — потолкуем еще. Ну, будь здоров.
Когда он ушел, объявили прогулку, и на маленьком пятачке перед шизо, где разминались штрафники, я с удовольствием затянулся загладинской беломориной.
Таков был наш мир. А в другом, существовавшем с нашим параллельно, остались Галка и Решевскпй, и я стал о них думать, как об обитателях четвертого измерения. Это позволило мне жить дальше. И был там еще Мирончук, вместе с другими он продолжал бороться за меня, и через восемь месяцев после описанных событий я получил от него письмо:
«Спешу сообщить, — писал Юрий Федорович, — что дело наше, кажется, продвинулось и близко к завершению. Как я тебе уже писал, во время поездки на Острова я побывал в нашем посольстве, рассказал твою историю и попросил изыскать возможности добыть свидетельские показания в твою пользу, вообще разобраться с этим делом. Конечно, сообщил имена и координаты твоих друзей в Бриссене — доктора Флэннегена, Джойс и ее жениха Питера Абрахамсена — с тем, чтобы можно было опереться на них в случае чего. Разумеется, я сам бы незамедлительно отправился в Бриссен и вытряс бы из этого Коллинза душу, но ты понимаешь, что это невозможно. Как бы там ни было, нам обещали помочь. Сегодня мне стало известно, что они-таки раздобыли доказательства тому, что в ту ночь жители островов слышали сильный взрыв… Теперь мы готовим ходатайство прокурору с просьбой о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Конечно, на это уйдет какое-то время, но будь молодцом, держись…»
На это ушло без малого четыре месяца. И вот, получив документы, я крепко пожал Загладину руку и медленно пошел с вахты, с трудом подавляя желание броситься вперед стремглав.
На углу я повернулся. В дверях стоял Загладин. Он поднял и опустил руку, «прощай, мол, Волков»… «До свидания» в этих случаях не говорят.
И я уходил все дальше, непроизвольно ускоряя шаги, дальше и дальше, и думал о Загладине, о его словах про волю и, не осознав еще до конца, что вот она, воля, вокруг меня, бери ее руками, щупай, пробуй на вкус, запах, нарезай, как пирог, кусками, и, не осознав всего этого до конца, вдруг неожиданно для себя громко рассмеялся и на ходу коснулся шершавой поверхности самого обычного жилого дома.