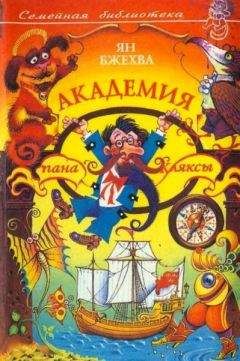Зиновий Юрьев - Чужое тело, или Паззл президента
— Да, и что там тебя так поразило? Я помню, что просвещал тебя о божественном происхождении пармской ветчины прошутто.
— Прошутто, как и жена Цезаря, вне подозрений. Меня поразило другое. Вы сказали, что в этом ресторане вы всех знаете, и все вас знают. Вы-то действительно знаете. Хотя бы что такое прошутто. Но вас-то никто там не знал. Ну зачем, снова и снова спрашивал я себя, умный и безусловно незаурядный человек станет хвастаться перед таким сосунком, как я, что его все знают в каком-то ресторанчике, когда его там никто не знал и в глаза не видел. Тем более — и это было очевидно — что такие вещи проверяются без малейшего труда.
Решение могло быть только одно. Если допустить, что Петр Григорьевич стал вами, я имею в виду внешне, и на минутку потерял бдительность, всё становилось на свои места. Все в «Ми пьяче» знали Петра Григорьевича, но никто не знал Евгения Викторовича. Или вот еще. Как-то Петр Григорьевич, когда брал меня в компанию, объяснил мне, почему он это делает. Он сказал, что глаза у меня смешливые и непочтительные, но честные. А совсем недавно вы, то есть Евгений Викторович, сказали мне буквально то же самое. Во-первых, само слово «смешливые» не столь уж употребительно. Но главное, спрашивал я себя, можно ли предположить, что умирающий от тяжелой болезни Петр Григорьевич, мучимый и мыслью о приближающейся смерти, и болями, и заботами о будущем компании, станет призывать к себе своего преемника и шептать ему, собирая последние силы: а у Яши Свирского глаза смешливые и непочтительные, но честные. Абсурд стопроцентный.
— Послушай, Яша, — вдруг улыбнулся Евгений Викторович, — ты кроме там всяких таблиц логарифмов книжки какие-нибудь читал?
— Какую-то книжку, помню, читал. Очень большое впечатление произвела. А, вспомнил: наша Маша громко плачет, уронила в воду мячик. Тише, Машенька, не плачь, не утонет в речке мяч.
— Не, Яш, я о более серьезной литературе. В которой описывается, например, как преступник порой испытывает странное облегчение от того, что признается в преступлении.
— Вы это к чему?
— К тому, Яша, что я испытываю сейчас то, что, наверное, должен испытывать человек, который тащил на себе тяжеленный тюк и может наконец сбросить его с плеч… Еще бутылка пива у тебя есть?
— Еще три.
— Тогда хватит для чистосердечного признания. Явки с повинной, правда, не получится. Не к кому являться и никто всё равно не поверил бы такой явке и такой повинной. Разве что в психушку снарядили бы. А признаться тебе я могу. И поверь мне, испытываю при этом огромное облегчение. Поймешь ли ты меня, сумеешь ли простить — это уже другой вопрос. Налей себе полный стакан и слушай внимательно. Это долгая история. И начинается она с того момента, когда мой лечащий врач сообщил мне диагноз. Обрати внимание на слова «мой лечащий врач» и «сообщил мне диагноз». Это ведь уже чистосердечное признание. Потому что подразумевает, что болен был я, Петр Григорьевич Илларионов. Итак, диагноз окончательный и бесповоротный. Рак поджелудочной железы в четвертой стадии с множественными метастазами. Неоперабельный. А умирать, Яша, не хотелось…
Когда Евгений Викторович закончил свой рассказ, они оба долго молчали.
— Одного я тебе еще не рассказал, — задумчиво добавил Евгений Викторович. — Когда жажда жизни, слепая эгоистичная жажда жизни склонила меня к принятию предложения Семена Александровича, я и представить себе не мог, что чем больше времени будет проходить после убийства — если называть вещи своими именами, это ведь было самое хладнокровное убийство, — тем больше я буду страдать от содеянного. Не хочу показаться тебе позером, но поверь, не раз и не два я серьезно обдумывал вопрос, не проще было бы покончить с собой. Совесть-то тоже иногда становится похожей на злокачественную опухоль — растет и растет, и никак от нее не избавишься. Нет от нее действенных медикаментов. И что делать, Яша, я не знаю. И вот я смотрю в твои смешливые, но честные глаза и хочу прочесть в них еще один приговор. Пусть тоже окончательный и бесповоротный.
— Ну, Евгений Викторович или Петр Григорьевич, я вообще по натуре не судья, и уж подавно не судья вам. И в судьи вообще не гожусь. Я как-то читал, что в древней Иудее членами Верховного суда — Синедриона могли быть только женатые мужчины и отцы семейств. Считалось, что они лучше знают цену человеческой жизни. К тому же в день рассмотрения тяжелых преступлений члены Синедриона не имели права есть мяса. А я и не женат, и детей у меня нет, и утром на завтрак я съел бутерброд с колбасой. Хотя есть ли в этой колбасе мясо, я не уверен.
Конечно, расцеловать вас за то, что вы сделали с Евгением Викторовичем, я не могу. Да вы бы и не поверили в искренность такого поцелуя. Но и морали вам читать не стану. Потому что совсем не уверен, что сам не поступил бы при подобных обстоятельствах так же. А то мы ведь любим поучать: если вы честный человек, вы бы лучше вышли на Красную площадь в сталинские времена с плакатом или — еще лучше — повесились. При этом сам поучающий, как правило, и не почешется, когда нужно совершить куда менее смелый поступок, чем отправиться на расстрел или в ГУЛАГ. Чего тут говорить, вы всё сами понимаете. Но если все-таки вы бы стали настаивать на том, чтобы я вынес вам приговор, извольте: пожизненное заключение, но условное. Потому что искупить преступление вы лучше сможете не в тюрьме — даже если бы какой-нибудь суд и смог осудить вас, — а в своей душе. Строго говоря, можно быть самому себе судьей куда более строгим, чем судья в мантии. А пожизненный приговор потому, что отбывать вы будете наказание всю жизнь. Добавлю лишь, что никакого отвращения или презрения к вам я не испытываю. Наоборот: жалость и симпатию. Почему — не знаю. То ли я сам такой же, то ли потому, что вы так глубоко переживаете содеянное и так страдаете. А то ведь девяносто девять процентов людей прекрасно с собой уживаются, чего бы они ни сделали. Совесть вообще вещь редкая, а у большинства тех, у кого она есть, она, эта совесть, безразмерная и отлично растягивается.
Но сейчас я вам скажу нечто, что, как я полагаю, может иметь прямое отношение к этому приговору.
— Что, Яша? — с трудом спросил Евгений Викторович.
— Этот трагический гений…
— Семен Александрович?
— Да. Вся эта операция по переносу сознания от одного человека к другому, в данном случае от Петра Григорьевича к настоящему Евгению Викторовичу, происходила, как вы только что мне рассказали, наложением на голову какого-то прибора, который вы называете шлемом?
— Да.
— Когда весь этот чудовищный паззл начал складываться у меня в голове в абсурдную, но единственно возможную картинку, я проторчал не один час в Интернете, стараясь понять, как работает человеческая память. Я ведь не нейрофизиолог, да и они, как я быстро понял, знают далеко не всё. Ох как не всё. Очень многое, как и следовало ожидать, изучено плохо, понято еще хуже, но твердо установлено, что человеческая память, которая, собственно, и составляет самосознание, наше «я», состоит из памяти двух типов. Из памяти в виде электрических зарядов, циркулирующих через синапсы между миллиардами нейронов, и долговременной памяти, хранящейся в некоторых молекулах. Вообще ведь строение и работа мозга — одна из величайших загадок Вселенной, и познана нами едва-едва. А может быть, еще меньше. А я, как уже сказал, так вообще полнейший профан. И тем не менее я подумал, что ваш удельнинский гений работал только с электрическими зарядами, совершенно не трогая долговременную память, скрытую в молекулах. Хотя бы потому, что если электрические заряды мозга хоть чуть-чуть, но изучены, то долговременная память, хранящаяся в молекулах, — это вообще терра инкогнита.