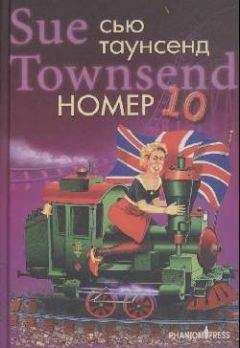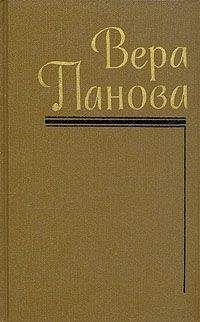Сергей Абрамов - Рай без памяти
– Я знаю рецепт. Ты говорил о нем еще в континууме. Но так ли должен развиваться эксперимент?
– Ты уже заговорил их языком. «Эксперимент»! Мы не морские свинки.
– Я уже не ты. Я – канал связи. Как сказал Зернов: замыкающая контакта.
– Ты все слышал?
– Через тебя. Можешь не пересказывать. Ваш рецепт – невмешательство в эволюцию.
– В революцию.
– Называй как хочешь. Пусть Зернов определит дальнейшие формы эксперимента.
– Что он хочет? – спросил Зернов.
– Ты догадался?
– Нетрудно. Отсутствующий вид, и губы шевелятся. Уже был опыт.
– Они хотят, чтобы ты высказал свое мнение о дальнейшем развитии эксперимента.
– Прежде всего не называть это экспериментом. Исключить это понятие из отношений обеих форм жизни. Никаких экспериментов! Создание – пусть неземным, не эволюционным путем – высшей стадии белковой жизни не отменяет дальнейшей ее эволюции. И никакого вмешательства! Любое вмешательство извне будет ее тормозом или гибелью. Люди этого мира сами найдут разумный путь к счастью. Может быть, «облакам» непонятно слово «счастье». Назовем его оптимальным вариантом благоденствия. Не совсем точно, но «облакам» будет понятно. Так вот, этот оптимальный вариант теперь найдут сами люди. Начало уже положено. Они же сумеют наиболее целесообразно использовать и два подаренных им сказочных чуда. Спроси своего двойника, помнит ли он заключительные слова писателя на парижском конгрессе о встрече двух цивилизаций, взаимно обогащенных духовными и техническими контактами?
– Можешь не спрашивать, – услыхал я голос своего невидимого собеседника. – Хочешь, повторю?
– Не надо. А ты хотел бы сохранить свою земную память?
– Конечно. Я бы и знал больше, и мыслил шире.
– И тебе бы не мешало мое существование?
– Где-то в другом мире? Абсурд. И я бы, вероятно, изменился, и похожесть бы наша в чем-то исчезла.
– Мне ты тоже не мешаешь. Мне даже приятно, что ты есть.
– Долго ты шептать будешь?! – взорвался Мартин. – Пошли его к черту. Хотят нас возвращать – пусть возвращают. И так три месяца потеряли. Я уже безработный в Америке.
Я услышал тихий смех. Его смех. Хотя это и было повторением гренландского опыта, слышать смех человека только в сознании казалось тревожным и странным.
– Скажи Мартину, что три месяца легко могут превратиться в три часа.
– Что-то загадочно.
– Узнаешь, когда очутишься у себя на веранде. Кстати, не выходи на улицу.
– Почему?
– А погляди на себя…
Я поглядел. На мне был серый мундир, расшитый где только можно золотым галуном. В таком же мундире был и Мартин, переодевшийся для операции в Си-центре и ресторане «Олимпия». Зернов в белом халате напоминал парикмахера или врача из райполиклиники, а Толька в смокинге и галстуке черной бабочкой смахивал на официанта из интуристской гостиницы.
– Что разглядываешь? – обиделся он.
– Любуюсь, в каком одеянии мы вернемся на Землю.
Все посмотрели друг на друга и засмеялись.
– Особенно ты хорош, – сказал Зернов. – Совсем швейцар из «Националя».
– А ты? Побрить? Постричь? Под бокс или полечкой?
– И я в мундире, – растерялся Мартин. – И переодеться не сможем. Может, куртку выбросить, а галун со штанов спороть?
– Не надо, – услышал я опять, – возьмите с собой как сувениры. Поездка не повторится.
– Значит, расстаемся?
– Увы, да.
– И больше не встретимся?
– Кто знает? Может быть, встретятся твои внуки и мои правнуки. Здесь время течет иначе, чем на Земле.
– Что ж, прощай. Может быть, это и к лучшему. Чудеса должен творить сам человек, а не мучиться над их объяснениями.
– Все, что теоретически возможно, обязательно будет осуществлено на практике, как бы ни были велики технические трудности. Это Кларк. Вместе читали.
– Должно быть. И Уэллса тоже. У меня сейчас на душе так же горько, как у мистера Барнстепла перед возвращением его из Утопии.
– А помнишь, о чем его попросили? Положить цветок на дорогу, где проходил стык двух миров.
– Я положу ветку.
– Нет, книжки. У тебя есть на даче какие-нибудь справочники, учебники?
– Что-то, помнится, есть.
– Положи их стопочкой в центре стола. Мне они пригодятся, даже если вернется память. А если нет, я переведу их для моих соотечественников. Пусть просвещаются… – Голос его постепенно слабел, как будто он уходил по дороге. – Приготовься. Будет шок. Да не пугайся – коротенький. Секунда, две…
– Приготовьтесь. Возвращаемся, – повторил я вслух и провалился в бездонный черный колодец.
45. СНОВА НА ДАЧЕ
Шок был действительно пустяковый. Я не почувствовал ни тошноты, ни головокружения, ни слабости. Просто открыл глаза навстречу свету. То был предсумеречный июньский свет, когда солнце еще не опустилось за горизонт и золотым шаром висело над рощицей.
Я сказал – рощицей, потому что галльский лес исчез. Мы сидели на той же дачной веранде, где ничто не изменилось с тех пор, как мы ее вынужденно покинули. Стояла все та же недопитая бутылка виски, привезенная Мартином из Бруклина сквозь рогатки таможенников, а на тарелках по-прежнему теснилась всякая всячина: недоеденные шпроты, консервированная курица и крутые яйца – все, что может извлечь из холодильника муж, временно оказавшийся на холостяцком положении.
Первым обратил на это внимание Толька Дьячук:
– Три месяца не были, а ничего не протухло.
– И не засохло.
– Даже хлеб свежий.
– Может, кто другой ужинал? – предположил Мартин. – Жена-то небось вернулась.
– Ирина! – позвал я.
Никто не откликнулся.
– А хлеб, между прочим, наш, – сказал наблюдательный Толька. – Ситнички. А вот это я надкусил. Определенно.
Мы переглянулись. Я вспомнил шутку «дубля» о том, что три месяца могут обернуться тремя часами. А если это была не шутка?
– Который час? – вдруг спросил Зернов.
Мы с Мартином почти одновременно откликнулись, взглянув на ручные часы:
– Четверть пятого.
– Ведь это их часы, – сказал Толька, – девятичасовые.
Я оглянулся на тикавшие позади ходики. Они шли, как и до нашего исчезновения с веранды, и часовая стрелка на них ползла к девяти.
– Сколько показывали наши, когда мы очутились в лесу? Кто помнит? – снова спросил Зернов.
– Шесть, кажется.
– Значит, прошло всего три часа.
Все снова переглянулись: известное мне для них было новой тайной. А я вдруг вспомнил о просьбе моего аналога, последней прощальной просьбе его, и вопрос о времени утратил для меня интерес. Я молча вскочил и бросился в комнаты к этажерке с книгами. Их было немного – случайно или намеренно захваченные при переезде сюда из московской квартиры. Кое-что было у Ирины: она вела здесь какой-то кружок. Я нашел учебник политэкономии, философский словарь, «Государство и революция» – драгоценность для каждого, если только Юрка сумеет перевести Ленина, однотомную энциклопедию – незаменимое пособие для возвращения памяти – и даже справочник кинолюбителя с подробными чертежами популярных съемочных и проекционных камер; может быть, Анохин-бис завоюет репутацию братьев Люмьер: в лаборатории Би-центра ему в два счета сконструируют и камеру и проектор.