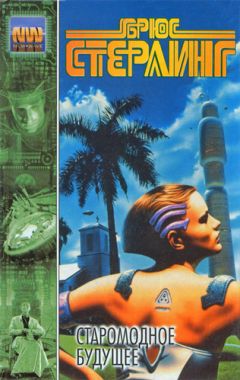Брюс Стерлинг - «Если», 1999 № 06
Фэнтези сделала даже не один, а два шага назад. Суперавтори-Теты, исторически предшествовавшие суперавторитетам моделей посюстороннего будущего (то есть, допустим, те, которые так помогли Булгакову написать «Мастера…»), для нее мракобесие. Но на самом-то деле штука в том, что они для фэнтези просто слишком серьезны. Ведь на этом уровне не в силе Бог, но в правде — и о чем тогда писать? Мускулистый меченосец (АКМоносец, бластероносец), объявленный наконец-то появившимся в российской литературе сильным активным героем, грозит, неровен час, снова превратиться в рефлектирующего интеллигентишку, объявленного символом трижды проклятых шестидесятых годов. Отчего же они так ненавидимы, эти годы?
Оттого, что это годы краткого апофеоза веры третьего уровня — еще существовавшей, но уже не отягощенной сознательным пролитием крови иноверцев. Верующий может понять и пожалеть неверующего. Неверующий на такое не способен никогда. Он обязательно будет смеяться над верой, стараться унизить ее и с пеной у рта доказывать, что он свободен и горд, а верующий — унижен и связан, слеп и зашорен, будет, не понимая смысла цитаты ни на волос, повторять: «Они же сами говорят, что они рабы Божьи, а я не хочу быть рабом!» Ему обязательно надо победить верующего духовно — хотя бы в собственных глазах. Потому что подсознательно он завидует тому, что верующий никогда не бывает одинок и всегда имеет цель. Завидует осмысленности и неизолированности его бытия. В Европе прошлого века вполне всерьез возникали целые философии, в которых суперавторитетом объявлялось индивидуальное «я», но результаты воздействия таких философий на большие массы людей хорошо известны.
Фэнтези идет путем наименьшего сопротивления и еще по одному параметру. Присущее всей фантастике свойство конструирования миров даст ей возможность конструирования мира ПОД ГЕРОЯ — так, чтобы насколько возможно облегчить этому герою его задачу. Не только божки придумываются так, чтобы их приятно и легко было ниспровергать. Вся физика, вся метрика мира, все его константы и атрибуты придумываются исключительно так, чтобы характер героя, его способности, его идеи обеспечили ему конечную победу после ряда как можно более увлекательных промежуточных телодвижений. Цель и средства меняются местами: это как если бы даже не Анне менять любовников, руководствуясь задачей прокатить ее по возможно большему количеству российских градов и весей для ознакомления читателя с местной этнографией, но, напротив, психологию и физиологию Аннушки, равно как и местную этнографию, придумывать исключительно так, чтобы добиться возможно большего количества совокуплений на печатный лист.
Но если не шутейно — таким образом молчаливо признается, что мир реальный действительно обречен быть и оставаться во власти Князя Тьмы, и с этим миром даже возиться-то, даже упоминать-то его не стоит. Победа положительного героя — каким бы, в меру своих представлений о положительном, ни рисовал его автор — оказывается возможной лишь в мире качественно измененном. Опять мы сталкиваемся с неизбывным стремлением качественно менять миры. Но в фантастике шестидесятых это делалось для того, чтобы сделать мир для лучшей жизни. А теперь — чтобы сделать мир для лучшей драки. В самом замечательном случае — чтобы сделать мир, который всеми своими свойствами доказывал бы суперавторитетность главного героя. Старик Ницше благодарно кланяется из своей могилы!
Конечно, в демократическом обществе должны уживаться и хлысты, и трясуны, и обычные верующие. Но в данном случае речь идет о том, что обычных уже почти не остается — более того, они-то и оказываются ненормальными, белыми воронами среди бесчисленных свидетелей Иеговы, святых последнего дня и прочих, несть им числа…
Другой широко используемый паллиатив, который сумела выработать фантастика, когда умер великий посюсторонний суперавторитет, рожденный на грани веков — это так называемая альтернативная история. Что было бы, если?.. Если бы Германия победила СССР во второй мировой войне? Если бы не было Октябрьской революции? Частным случаем этой механики являются параллельные миры — та же земля с тем же человечеством, но их несколько, и у каждой своя история. Не скрою, мне, историку, этот подход интересен и близок, но, как правило, роль суперавторитета в подобных текстах начинает играть историческая случайность. А она как всякая случайность в природе — вне добра и зла. Каждая случайность — сама по себе, и человек перед нею — никто, и звать его никак. Кинули — выпутывайся. Будто бы как в жизни, с той лишь разницей, что, коль скоро вбрасывание в ситуацию происходит вне добра и зла, таким же образом происходит и выпутывание. И лишь сам выпутывающийся в меру своих индивидуальных представлений о допустимом и недопустимом для человека поведении привносит в процесс выпутывания свою индивидуальную меру добра и зла. А в литературе процесс вбрасывания производится лишь с якобы присущей реальной жизни вне-этичной жестокостью, а на самом деле вполне с человеческим садизмом, так, чтобы с первой же страницы поядреней ущучить персонажей, ведь тогда будет интереснее читать — и процесс выпутывания происходит аналогично. И волосы встают от обилия замученных и искалеченных для забавы.
Однако если возникает попытка ввести историческую случайность в сетку этических координат, то сразу снова получается мракобесие, ибо предполагается, что случайности бывают плохими и хорошими, для человека и против человека Но тогда кто в состоянии это сразу, сверху, однозначно определить? Опять лишь горние персонажи этических религий. И тогда опять получится серьезно и тягомотно, потому что не в силе Бог… и далее по тексту.
Говорят (с легкой руки мудрецов брадатых), что история повторяется в первый раз в виде трагедии, в другой раз — как фарс. Один раз человечество уже проделало путь от язычества к мировым религиям и далее, к вере в светлое посюстороннее будущее, которая, что самое-то замечательное, верам второго уровня сама по себе отнюдь не враждебна. Наоборот, язычество враждебно и тому, и другому, потому что для него нет будущего, есть только бесконечно длящееся настоящее, в котором надлежит руководствоваться неизменным здравым смыслом; ведь больше нечем. Недаром так много стало текстов, где перемешиваются реалии прошлого и настоящего; зачастую такое смешение служит самым мощным эстетическим средством, на котором только и держится все остальное. С художественной точки зрения это даже бывает ярко и смешно. Но со смысловой — это не более чем капитуляция перед мрачной иллюзией: мол, исторического движения нет.