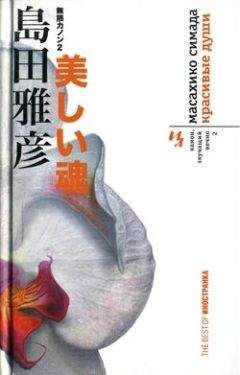Павел Амнуэль - Маленький клоун с оранжевым носом
— Пожалуйста, ваш год рождения, семейное положение, место работы и год алии. Паспортные данные ваши я ночью уже записал, так что это опустим.
— Год рождения одна тысяча девятьсот шестьдесят восьмой, женат, имею дочь одиннадцати лет, работаю в Еврейском университете в Гиват-Раме, физический факультет, имею докторскую степень, репатриировался в Израиль с семьей в одна тысяча девятьсот девяносто седьмом.
— Исчерпывающе, — одобрительно отозвался Учитель, записывая за мной со скоростью хорошего стенографиста. — Давно ли вы знакомы с… убитым?
— Мы познакомились в одна тысяча девятьсот семьдесят четвертом году.
— В одна… Вам же было пять лет? Или шесть?
— Пять с половиной. Мы были в одном детском саду.
— Очень интересно, — с чувством глубокого удовлетворения сказал следователь: — Друзья детства, значит. И в Израиль вместе приехали?
— Это имеет значение? — полюбопытствовал я.
— Значит, вместе?
— Нет, — сказал я. — С интервалом в четыре месяца. Сначала уехал Алик, а потом я.
Не рассказывать же этому человеку о том, что, когда семья Гринбергов начала готовиться в дорогу, мне и в голову не приходило покидать родное отечество. После физтеха я проработал несколько лет в экологической фирме (на самом деле мы занимались замерами чистоты воды и воздуха по заказам предприятий и частных лиц и продажей аппаратов для очистки), зарплата у меня была вполне по тем временам приличной, с Галей мы недавно поженились, и все, в общем, было в моей жизни «путем», когда однажды вечером пришли к нам в гости Алик с Ирой и объявили, что собираются в Израиль, причем инициатива исходила от Иры, которой осточертела ее работа, наш город, надоело каждый день думать о том, где и как заработать еще пару копеек, и вообще, посмотри, Матвей, что творится…
Алик молча кивал, вид у него был страдальческий, и я не очень понимал — то ли он действительно соглашался с женой, то ли поддакивал потому, что устал спорить: он только неделю назад вышел из больницы, печень ему сильно досаждала, и он мог хотеть любых перемен — почему не Израиль, может, там врачи сумеют справиться с его многочисленными болячками, о причинах которых мы с ним давно догадывались, но еще не были ни в чем уверены, и потому Алик во всем сомневался, прежде всего в самом себе.
«Но послушайте, — сказал я. — Там говорят на иврите! Алику язык никогда не выучить!»
Это было так — о неспособности Алика к языкам еще в школе рассказывали анекдоты, на английском он с трудом запомнил сотню слов, в университете зачет получил с третьей попытки, я представить себе не мог, чтобы Алик заговорил на каком бы то ни было языке, кроме русского, а в Израиле без иврита нечего делать, об этом писали все знакомые, уехавшие в начале девяностых и все еще толком не устроившиеся.
«Я выучу, — сказала Ира. — Язык — не причина оставаться. Здесь больше невозможно».
Алик кивал. Он делал все, что хотела Ира, а Ира делала все, что, как она считала, пойдет на пользу Алику. И они уехали. А мы с Галей и Светочкой стали ждать писем из Израиля. Алик писал, как в кибуце Шкуфим, где они поселились, тепло, как ему там без меня плохо, и он или вернется обратно, или дождется меня, или бросится под машину, потому что так жить нельзя, Ира о его письме ничего не знает, она уверена, что они выплывут, а на самом деле они уже давно на берегу и хватают воздух, как рыбы.
— Сначала уехал Гринберг, потом вы, — повторил Учитель и записал в протокол, будто это обстоятельство имело какое-то значение для следствия.
— Здесь, в Израиле, — сказал он, — у вас бывали ссоры?
— Вы ищете мотив? — улыбнулся я. — Конечно, мы спорили время от времени. Не ссорились, но иногда орали друг на друга: он, к примеру, считал, что с палестинцами надо договариваться по-хорошему, а на мой взгляд, они понимают только грубую силу.
— Политика меня не интересует, — отмахнулся Учитель. Неужели он был твердо уверен в том, что политические разногласия ле могли стать поводом для убийства? И это после Рабина? — А в семье у них отношения… Может, у Гринберга была другая женщина, жена ревновала…
— Ира? — Я пожал плечами. — Если бы у Алекса появилась другая женщина, Ира ей живо объяснила бы, какой ее муж семейный человек. Алику она уж точно сцен устраивать не стала бы и, конечно, не… Впрочем, это я чисто теоретически. Не было у Алекса другой женщины, можете мне поверить.
— Допустим. — Учитель поджал губы: он не верил, что у нормального мужчины нет хоть какого-нибудь адюльтерчика, а где адюльтер, там ревность, а где ревность… Стандартный в Израиле мотив, чтобы зарезать супругу или супруга — каждый вечер в телевизионных новостях рассказывают об очередном случае: можно подумать, что в стране живут сплошь Отелло и Катерины Кабановы.
— Тогда, может быть, его жена Ирина… — с надеждой в голосе спросил Учитель.
— Нет, — отрезал я. — Никаких трений в семье у них не было. Они любят друг друга и…
— От любви, — назидательно произнес следователь, — самые большие беды на свете. Если не любишь, то не ревнуешь, а если не ревнуешь…
Он пожал плечами, не став продолжать логическую цепочку. Так ему хотелось написать в протоколе «убийство из ревности», стандартный, видимо, мотив, привычный для местных правоохранительных органов.
— А какими, — спросил Учитель, — были отношения между матерью Гринберга и его женой? Обычно…
Ну да, обычно свекровь ненавидит невестку, и та платит ей взаимностью. Но почему при этом убивают они не друг друга?
— Нормальные, — сказал я. — Нормальные у них отношения. Иногда спорят из-за Игоря: Ира считает, что сына нужно воспитывать в строгости, а Анна Наумовна утверждает, что если ребенка не баловать, он вырастет моральным уродом.
— Ну, это… — вяло отмахнулся следователь. — А финансовые споры? Со слов Ирины… м-м… Вадимовны я понял, что она зарабатывает больше мужа, а это часто действует на мужскую психику.
— Алик зарабатывал вполне достаточно, — сухо сказал я. — Уверяю вас, в этой семье никогда не было разногласий по поводу того, кто сколько денег приносит в дом.
— У Гринберга были враги? — перевел следователь разговор на другую тему.
— Не знаю, — уклончиво ответил я. — Но даже если были, никто из них не присутствовал в квартире вчера вечером.
— Никто не приходил в гости? Или случайно… на минуту?
— Нет, — отрезал я.
— В общем, — сказал Учитель неприязненным тоном, будто уличил меня в Том, что я создаю препоны для отправления правосудия, — в квартире не было никого, кроме жертвы, его жены, матери, несовершеннолетнего сына, вашей жены и вас. Никто из посторонних не приходил в течение всего вечера. Значит, совершить преступление мог только кто-то из присутствовавших. Ребенка можно исключить. Согласны?