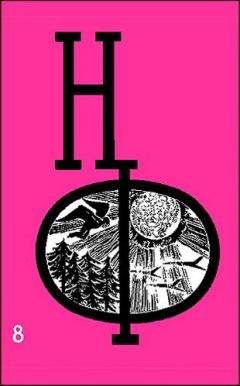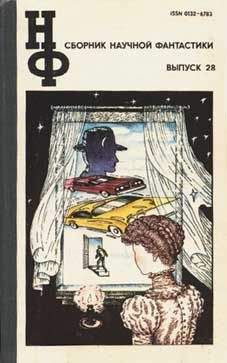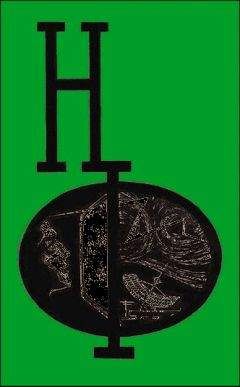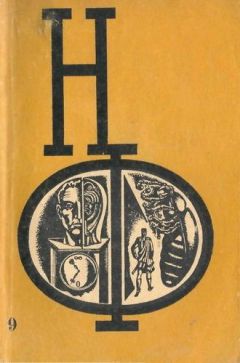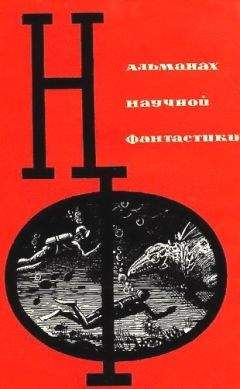Геннадий Гор - НФ: Альманах научной фантастики. Выпуск 6
Мои слова прервал приход гостя. Это был он, Черноморцев-Островитянин.
— Приветик, — сказал он и театрально поднял руку, затем приложил ее к тому месту, где сердце.
Кто-то рассказывал мне, что у Черноморцева-Островитянина сердце не с левой, а с правой стороны. Но он приложил руку к левой стороне, все-таки к левой, а не к правой.
— Приветик, — он кивал всем, и всем улыбался, и кланялся. Дама, у которой недавно вырвали зуб, повеселела. Впрочем, повеселели все. И особенно Гертруда, дочка моего приятеля. Гертруда представила меня фантасту.
— Ваш читатель, — сказал я, — и… почитатель.
Я покраснел, как мальчишка. Ведь я не был его почитателем, наоборот. Все, что он писал, мне казалось вульгарным. Но он уже смотрел на меня сверху снисходительным взглядом, как на одну миллионную часть, как на своего читателя, попавшего в расставленные им сети, в сущности, сотканные из очень банальных образов и слов и временами просто из штампов. Нет, он не был хорошим стилистом.
Да, он смотрел на меня сверху вниз и усмехался. Мне почему-то очень захотелось сбить с него спесь или, как в этом году выражались, немножко «ущучить». И я спросил тихо и выразительно:
— А как поживает Диккенс?
На какую-то часть секунды лицо его стало вопрошающе-изумленным и даже озабоченным, но он моментально нашелся:
— Диккенс? Уж если на то пошло, я предпочитаю По или Жюля Верна, но в силу объективных законов времени я не могу передать вам от них привет. Они там, у себя, в прошлом, а мы здесь, за этим милым столом.
За словами в карман он не лез, и мысль его работала четко и быстро. Но ведь я тоже не собирался отступать.
— Не тот Диккенс, который написал «Домби и сын», а тот…
Но Черноморцев уже перебил меня своей скороговоркой:
— Сейчас молодые люди любят стилизовать себя под прошлое. А покопаешься обычный скучный парень, не пьет, не курит и висит на доске почета.
— На доске почета?
— А почему бы нет? Выполняет и перевыполняет план. Умеет работать с книгой.
— А все же… Кто он?
— Кто он? Кто я? Кто вы?
Фантаст оглянулся и обратился ласково к Гертруде:
— У вас, Гертрудочка, я бы никогда не спрашивал; кто вы? Вы милое, доброе существо. При вас все становится на свое место, все делается добрым, ясным и понятным, даже непонятное и загадочное.
Пряча истину за шуткой, он покинул нас и подсел к той даме, у которой недавно вырвали зуб.
10
Социологи предсказывают: через тысячу лет все население планеты будет состоять из одних ученых.
Хорошо это или плохо? Не знаю. Впрочем, что тут плохого, если даже дворник и тот будет иметь степень кандидата философских или исторических наук! Но каковы будут люди? И какие между ними возникнут отношения?
Если между ними возникнут отношения, какие существуют между мною и двумя моими аспирантами (о третьем, речь пойдет особо), то это будет почти катастрофично.
Для Белоусова и Мокрошейко я что-то вроде одушевленного, любезного, одетого в старомодный костюм справочника.
Белоусов и Мокрошейко спрашивают меня, — я отвечаю. Я отвечаю — Белоусов и Мокрошейко запоминают мои ответы. Во всем этом почти нет ничего от чувства, от души. Разве нужна душа, когда наводят справки, ищут сведений. Я справочник, человек. начиненный сведениями и фактами. Таков я для них.
А для себя? До этого им нет никакого дела. Вместо того чтобы лишний раз заглянуть в книгу, они заглядывают в мою память.
Белоусов и Мокрошейко спрашивают — я отвечаю.
Другое дело-экзамен. Тогда я спрашиваю — они отвечают. О них я сужу по их ответам, но ведь и они тоже судят обо мне по моим вопросам.
Вот почему меня пугают прогнозы социологов.
За много лет своей работы я привык оценивать людей по тому, что и как они знают. Я приучил себя смотреть на жизнь, словно и она стоит у дверей и ждет своей очереди держать у меня экзамен.
Мысль о том, что все население планеты будет состоять из одних ученых, меня смущает. Пусть больше половины из них будут талантливыми исследователями. Больше половины, но не все. Будут и подобные Белоусову и Мокрошейко.
Миллион Белоусовых. А сколько таких, как Серегин? Сотни или единицы?
Однажды я спросил Серегина, — любит ли он заниматься самонаблюдением?
— Самонаблюдением? — Он усмехнулся. — Я считаю, что Огюст Конт был прав, когда отрицал его возможность. Конт высмеивал самонаблюдение как нелепую попытку человека заглянуть а окно, чтобы увидеть, как он сам проходит по улице.
— Но ведь Конт ошибался, — сказал я. — Он был типичный метафизик.
— Как бы мне хотелось увидеть себя в окно.
— Но ведь это невозможно.
— Мне почему-то всегда хочется невозможного. Я посмотрел в окно. И вздрогнул. За окном по улице шел он, словно со мной здесь рядом пребывал кто-то другой.
— Смотрите, — взволнованно сказал я. — Это ведь тоже вы за окном, на тротуаре? Жалко, нет здесь Конта, мы бы его заставили взять свои слова обратно.
— К сожалению, это не я, — ответил Серегин. — Доцент Сидельников. Много бы я дал, чтобы это был не он, а я.
— Вы страдаете, что у вас нет двойника или близнеца-брата?
— Нет. Я страдаю от того, что человек не может переступить границ возможного. Я, например, знаю, что если проживу даже девяносто лет, никогда не перекинусь словом с представителем другой логики, другого, внеземного опыта. Слишком велико и бездонно расстояние.
— Не понимаю вашей тоски, — сказал я — Мне вполне хватает и земных, обыденных собеседников. А когда приходит желание поговорить с кем-нибудь, с кем-нибудь очень умным, я раскрываю том Пушкина, Гегеля или Гёте.
— Мне этого маловато, — сказал Серегин.
— Маловато? Как вам не стыдно! Ведь это боги. Ими всегда будет гордиться человечество.
— Вы меня не поняли. Логика Пушкина, Гёте и даже Гегеля наша, земная. А мне хотелось бы встретиться с иным типом мышления, соответствующим иной среде. И сознание, что это невозможно, приводит меня то в отчаяние, то в ярость. Эволюция обманула нас, дав нам разум.
— Почему?
— Весь смысл земной, человеческой цивилизации заключается в том, чтобы состоялся диалог между нами и тем, кому мы можем сказать вы. — Он сделал паузу и продолжал:
— Я не может существовать без ты, мы без вы Земной разум создан не для монолога, а для диалога. Земное человечество не может остаться вечным Робинзоном на своем крошечном планетном островке. Чтобы сказать ты и услышать ты, Робинзон обучил попугая. Вся наша человеческая культура без диалога с другим разумом — это только попугай, иллюзия, самообман. И я боюсь, что мы навсегда останемся Робинзоном, разговаривающим с самим собой и с попугаем.