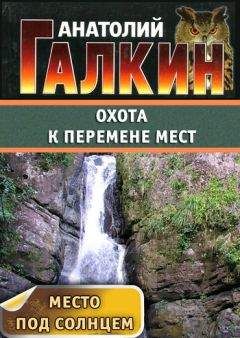Андрей Столяров - Телефон для глухих
Народу на улицах стало значительно меньше. Я спешил. Ветер надувал занавески в распахнутых окнах. Трепетала на театральной клумбе афиша: человек во фраке, взмахивающий дирижерской палочкой. Где-то под самыми крышами мучили пианино – нечто торжественное, безнадежное, будто специально к данному случаю. Я взлетел по лестнице. Дверь в квартиру Катарины была приоткрыта. В прихожей валялись – круглое ручное зеркальце, платок, карандаш для бровей. Я на всякий случай позвал – в ответ зазвенела неживая какая-то тишина. Разумеется. Я и не рассчитывал, что Катарина будет сидеть сложа руки. Она ведь не сумасшедшая, знает, что следует делать в случае чрезвычайных обстоятельств. Но и не придти сюда, чтобы убедиться в том, я тоже не мог. Я чувствовал бы себя последним трусом, если бы не пришел. Теперь понятно, почему герои и дураки гибнут в первую очередь. Радио не работало. И аварийная сеть, и собственно городская трансляция. В простеньком репродукторе на стене не было даже обычного фона. Я прошел на кухню. Тепловатая вода из крана еще сочилась. Я, захлебываясь от нетерпения, глотал вялую струйку. Где-то редко и далеко, по-видимому, на окраине стукнули выстрелы. Следовало торопиться; с чего это я решил, что Водак будет меня ждать. Одного человека. Или пусть даже двоих. Не будет он ждать – у него теперь на руках целый район.
В кране надсадно запшикало, захрипело, и я его выключил. Вытер лицо ладонью, стряхнул на пол вялые капли. Всё, коммунальные службы прекратили существование. Что-то неуловимое изменилось на улице. Что-то со светом, который как будто вывернулся наизнанку. Я так и замер – не дотянувшись до двери. А потом быстро, словно кто-то меня толкнул, обернулся к окну.
Грубая, толстая, угловатая трещина расколола небо. Будто черная молния простерлась вдруг от горизонта до горизонта. Ломаные края ее заколебались и начали отодвигаться. Абсолютно бесшумно, точно во сне, разомкнулась небесная льдина. Открылся купол Вселенной. Зажглись колючие звезды. Темный, как после смерти, холод сошел на землю. И ко мне в сердце – тоже сошел вечный холод. Потому что это уже был финал: погасили свет и упал тяжкий занавес. Апокалипсис. Бронингем. Сентябрь – когда распахнулось небо. Пять лет назад. Осень земных безумств. Четыре Всадника на гремящих костями клячах. Четыре оскаленных черепа с выставленными вперед зубами. Вплавленные в булыжник площади, четкие следы подков. Красная звезда Полынь, поднявшая над городом мутное зарево и сделавшая воду – горечью, а воздух – огнем. Люди искали смерти и не находили ее…
Меня пробирала дрожь. И наверное потому я не сразу понял, что в соседней комнате кто-то неразборчиво разговаривает. Шепотом, будто мышь шуршала в старых газетах. Я на цыпочках подкрался туда и толкнул стеклянную дверь. Катарина, зажмурив глаза, одетая и причесанная, вытянулась на диване. Левая рука ее в синих венах на сгибе свешивалась почти до пола – там валялась открытая сумочка и выпавший из нее кожаный кошелек, а сведенной правой рукой она прижимала к губам янтарный светящийся плоский кулончик магнитофона. Такой же кулончик имелся и у меня, только я его не носил. Рядом же, на журнальном столике находился стакан воды и яркая упаковочка пегобтала. Эту упаковочку, слава богу, ни с чем не спутаешь. Огненные буквы названия фосфоресцировали даже в полумраке зашторенной комнаты.
Итак, начался “сеанс”. Она, вероятно, оделась, взяла с собой самое необходимое и уже выходила на лестницу, когда начался “сеанс”. Надо же – как нам обоим не повезло. Я прижал пальцами теплое, чуть выгнутое запястье. Пульс был еще отчетливый – ровный и достаточно сильный. Значит, “сеанс” начался минут пятнадцать-двадцать назад. Катарина вдруг нервно вздохнула и подняла веки. Меня она, разумеется, не узнала. Что естественно: во время “сеанса” реципиент полностью отключается от внешнего мира. Упаковочка пегобтала оказалась нетронутой: десять пар глянцевых, интенсивно-желтых, продолговатых капсул. Вероятно, принять транквилизаторы она все-таки не успела. Я просунул ей сквозь напряженные губы сразу две скользких таблетки. Вот так, теперь лучше, теперь можно, по крайней мере, не опасаться за психику. Капсулы растворились мгновенно. Катарина продолжала шептать. Что-то непонятное, как будто говорила сразу на нескольких языках. Трижды, точно боялась забыть, повторила, повысив голос: “Зеркало… зеркало… зеркало…” Я даже вслушиваться не пытался. Никогда нельзя знать заранее, имеет ли передача какой-нибудь смысл. Связь с Оракулом – дело исключительно темное. Тихомиров, кстати, считает, что это вообще никакая не связь, а периодический вывод отработанной информации за пределы Зоны. Сброс мусора, очистка низовых понятийных коллекторов. Все может быть. Далеко не каждый человек способен принять передачу. Я, например, к счастью или к сожалению, не способен. А у Катарины, если считать нынешнюю, это уже четвертая. Поэтому она и не расстается с магнитофоном. Записями передач заполнены сотни километров дорогостоящей пленки. Над дешифровкой ее бьется целый исследовательский институт. И его работу на всякий случай дублируют еще два института. Только результаты у них почти нулевые – бред остается бредом: обрывки фраз, сумятица мыслей, очень редко – короткий связный абзац. Философия хаоса, как назвал это Ингвард Бьернсон. Мысли праматерии. Хотя, если по справедливости, возможно, не такой уж и бред. Технологию “вечного хлеба” выудили именно из передачи. И “напевы сирен”, снимающие шизофрению, и в конце концов “философский камень” – тоже. Правда, мы пока не очень-то представляем, зачем нам этот “камень”: неядерная трансмутация элементов – кошмар современной физики. Поймал его, кажется, еще Ян Шихуай. Он потом умер от остановки сердца во время второго “сеанса”. Тогда еще представления не имели о летаргическом воздействии передач. Реципиент обходился без пегобтала – своими слабыми силами. Сколько их отправилось в сон, из которого не возвращаются. И ведь уже догадывались подсознательно, но все равно выходили на связь. Отбою тогда не было от желающих. Романов… Альф-Гафур… Витке… Кляйнгольц… сестры Арбетнотт… Сестры Збарские… Поливановы, целой семьей, отец и два сына… Список можно было продолжить до бесконечности. Тогда казалось, что после долгих лет растерянности и непонимания возник настоящий, целенаправленный, “смысловой” диалог, что Контакт, которого столько ждали, начинает овеществляться, что еще вот-вот, еще одно усилие, один крохотный шаг – и рухнет стена молчания, упадет пелена с глаз, мы всё поймем – откроются звездные дали… Сколько надежд впоследствии оказались безнадежно разрушенными…
Пегобтал тем временем действовал. Катарина дышала хоть редко, зато уже глубоко и спокойно. Заблестели живые глаза между веками, порозовела бледная кожа на скулах. Правда, я не знал, что делать с ней дальше: идти она не могла – собрал сумочку, на всякий случай подготовил шприц для себя. Это требовалось обязательно: я мог спонтанно, вторым партнером, включиться в “сеанс”. Тогда мы вообще отсюда не выберемся. Было тихо. Звезды ледяной мелкой крошкой смотрели в окно. Жесткие серебряные их лучи очерчивали контуры зданий. Будто в обмороке, лежал на боку тонкорогий месяц. Все-таки надо было на что-то решаться. Где-то близко, по-видимому, этажом выше, еще терзали рояль. Теперь – Шопеном, “Траурный марш”, си-бемоль минор. Погребальные звуки жутковато сочетались со звездами. Я сорвался, точно подхваченный, – прыгнул через две ступеньки, через четыре, забарабанил в двери. Выглянул старик в клетчатой, мягкой домашней куртке. Развел в недоумении длинные руки: