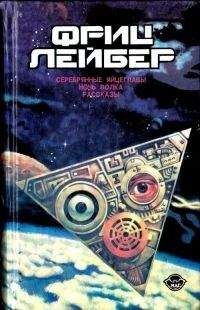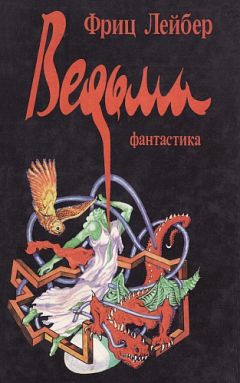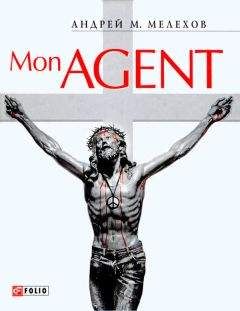Фриц Лейбер - Серебряные яйцеглавы
— Мне тоже необходимо обсудить с нашими уважаемыми нанимателями несколько щекотливых моментов, — отозвался Зейн. — Гаспар, старая кость, ты сегодня отважно помог мне. Это выходит далеко за рамки услуг, которые представители одной разумной расы обычно оказывают представителям другой. Мне хотелось бы выразить свою благодарность больше, чем просто словами. Я не мог не слышать грубых насмешек твоей решительной, но недружелюбной подруги. Видишь ли, это очень деликатное дело, и я рискую оскорбить тебя, но, Гаспар, старый ты лейкоцит, то, что мисс Ибсен говорила о роботах, не совсем правда. Я имею в виду, что они не способны оказать некоторые наиболее интимные услуги человеческим существам мужского пола. Нет, клянусь святым Вупперталем! Я не имею в виду именно наших роботесс и, уж конечно, не подразумеваю мисс Блашес конкретно, у меня этого и в мыслях не было! Я бы лучше нырнул в ванну с кислотой, чем позволил себе подумать такое. Но если вдруг ты почувствуешь такую нужду и у тебя не будет возможности удовлетворить ее немедленно, захочешь испытать видимость наиболее удивительного человеческого чувства, в высшей степени потрясающую, хотя и искусственную, женскую ласку, я могу дать тебе адрес заведения мадам Пневмо…
— Заткнись, Зейн! — оборвал его Гаспар. — Об этой части своей жизни я позабочусь сам.
— Уверен в этом, — сердечно сказал Зейн. — Это то, что всех нас заставляет похваляться одинаково. Прости меня, старый мускул, но не затронул ли я ненамеренно нежной…
— Затронул, — бросил Гаспар, — но все в порядке… — Он поколебался, затем улыбнулся и добавил: —…старый болт!
— Забудь об этом, пожалуйста, — мягко произнес Зейн. — Временами энтузиазм по поводу удивительных способностей металлических собратьев так увлекает меня, что я совершаю ужасные бестактности. Боюсь, я немного робоцентричен. Но я в самом деле рад, что ты ответил на мое оскорбительное замечание так деликатно. Гомер Хемингуэй, несомненно, обозвал бы меня жестяным сводником.
6
Когда был распотрошен последний харперовский «Издавальщик», а последний викинговский «Антологист» превращен в почерневшую скорлупу, обклеенную манифестами, опьяненные победой писатели отступили в свои богемные бараки, в свои Латинские и Французские кварталы, в свои Блумсбери, Гринвич-Виллиджи, Норт Бичи и расселись счастливыми кружками, ожидая вдохновения.
Однако оно, увы, не приходило.
Минуты растягивались в часы, часы — в дни. Были сварены и выпиты цистерны кофе, горы сигаретных окурков собирались на покрытых черной эмалью покатых полах чердаков, мансард и мезонинов, по утверждению археологов полностью воспроизводивших жилища древних сочинителей. Но все без толку: великие эпические произведения будущего, даже корявые эротические рассказы-однодневки и космические саги отказывались появляться на свет.
В этот момент писатели, все еще сидя в кружках начали браться за руки в надежде, что это поможет сконцентрировать психическую энергию и возродит в них таким образом творческое начало, а возможно, даже и посодействует контакту с душами давно ушедших писателей, которые любезно снабдят их сюжетами, не подходящими для потустороннего мира.
На основе загадочных традиций, просочившихся из тех далеких темных дней, когда писатели действительно писали, у большинства сложилось впечатление, что писание — это групповое мероприятие, в котором восемь-десять близких по духу парней, расположившись в шикарной обстановке, пили коктейли, «пинали идеи туда-сюда» — что бы это ни значило точно — и время от времени освежались с помощью прекрасных секретарш. Эта картинка превращала писательский труд и нечто вроде алкоголического салонного футбола с постельными перерывами, оканчивающегося чудом.
Или, наоборот, они верили, что писание зависит от «вскрытия бессознательного разума». Эта версия процесса делала его больше похожим на психоанализ или бурение нефтяных скважин — биолокация черного золота подсознания! — и будила надежду, что сжатие экстрасенсорного восприятия или любая другая форма псионной гимнастики может заменить творческие способности. В каждом случае хлопки руками в кругу считались верной ставкой, так как создавали необходимую общность и одновременно способствовали появлению темных психических сил. Разумеется, это широко практиковалось.
Однако книги так и не появлялись.
Секрет же был прост — ни один профессиональный писатель не представлял себе процесса написания рассказа, кроме как посредством нажатия кнопки «Старт» на словомельнице. Поэтому каждый, как это может делать только человек космического века, изумлялся тому, что у него до сих пор не отросли необходимые кнопки. Оставалось лишь скрипеть зубами от зависти к роботам, которым в этом отношении повезло куда больше.
Многие писатели невольно открыли, что они не способны составить из слов на бумаге ни одной фразы или вообще написать хоть слово. В великую эру пикторио-аудио-кинэстетико-осязательно-обонятельно-вкусо-гипнотическо-психологического образования они пренебрегли факультативным курсом этого несколько устаревшего искусства. Большинство из этих невежд закупили диктописцы, удобные устройства, преобразовывавшие устную речь в письменную, но даже в этом случае им пришлось с болью осознать, что их мастерство устной речи не идет дальше упрощенного бейсика или солар-пиджина. Они могли принимать огромные количества опия словодури, но из себя способны были исторгнуть не больше, чем каплю меда или шелковой нити.
Справедливости ради следует отметить, что некоторые из этих неписателей — пуристы вроде Гомера Хемингуэя — не пытались написать что-нибудь сами. Разрушив словомельницы, они решили, что подобными пустяками должны заниматься их менее атлетичные и более эрудированные коллеги. А немногие, среди них и Элоиза Ибсен, возымели амбиции стать профсоюзными царьками, издательскими баронами, словом, использовать хаос, последовавший за Избиением словомельниц, для своей выгоды, продвижения по службе или, по крайней мере, для удовольствия.
Однако основная масса писателей и в самом деле верила, что сможет создавать книги — даже великие романы! — не написав за всю жизнь ни одной буквы.
Продумав семнадцать часов, Лафкадио Сервантес Пруст медленно написал: «Отклоняясь, скользя, все поворачиваясь, поднимаясь все выше и выше, все расширяющимися огненными кругами…» и остановился.
Гертруда Колетт Санд, зажав язык между зубами, с болью напечатала: ««Да, да, да, да. Да!» — сказала она».
Вольфганг Фридрих фон Вассерманн застонал от распиравшей его вселенской боли и запечатлел: «Однажды…»