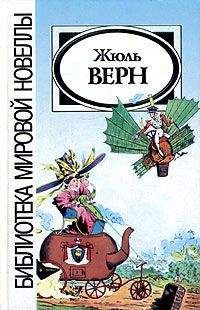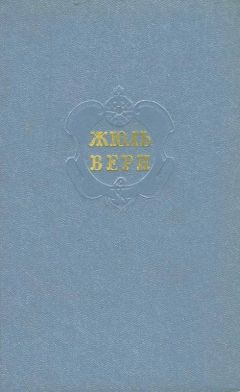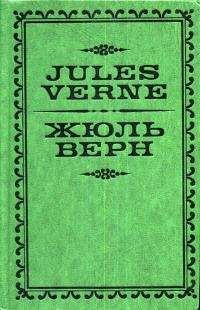Жюль Верн - Опыт доктора Окса
Но зато сколько аплодисментов выпадало на долю этих артистов, приводивших в восхищение жителей. Кикандона! Зрители все до одного аплодировали, хотя и с порядочными промежутками, а газеты на другой день сообщали, что артист заслужил «бурные аплодисменты»; раз или два здание театра сотрясали оглушительные крики «браво», и зал только потому не рухнул, что в XII столетии на постройки не жалели ни цемента, ни камня.
Впрочем, чтобы не слишком возбуждать восторженных фламандцев, представления давались только раз в неделю. Это давало возможность актерам тщательнее разрабатывать свою роль, а зрителям глубже пережить всю их мастерскую игру.
Так велось в Кикандоне с незапамятных времен. Иностранные артисты заключали контракты с директором кикандонского театра, когда им хотелось отдохнуть после выступлений в других театрах, и, казалось, эти обычаи останутся навсегда неизменными. Но вот недели через две после столкновения Шюта с Кустосом город был возбужден новым инцидентом.
Была суббота; в этот день всегда давалась опера. На новое освещение еще нельзя было рассчитывать. Правда, трубы были уже проведены в зал, но газовых рожков по вышеупомянутой причине еще не имелось, и горевшие в люстрах свечи по-прежнему изливали кроткий свет на многочисленных зрителей. Двери для публики были открыты с часу пополудни, и к четырем часам зал уже был наполовину полон. У билетной кассы образовалась очередь, тянувшаяся через всю площадь св. Эрнуфа до самой лавки аптекаря Жосса Лифринка. Такое скопление публики доказывало, что ожидается недюжинный спектакль.
— Вы идете сегодня в театр? — спросил в это утро бургомистра советник.
— Непременно, — ответил Ван-Трикасс, — и госпожа Ван-Трикасс, и моя дочь Сюзель, и наша милая Татанеманс, — все они обожают серьезную музыку.
— Так мамзель Сюзель будет? — спросил советник.
— Без сомнения, Никлосс.
— Тогда мой сын Франц будет первым в очереди, — ответил Никлосс.
— Ваш сын — пылкий юноша, Никлосс, — важно изрек бургомистр, — горячая голова! Не мешает за ним присматривать.
— Он влюблен, Ван-Трикасс, влюблен в вашу прелестную Сюзель.
— Ну что ж, Никлосс, он на ней женится. Мы решили заключать этот брак, — так чего же ему еще надо?
— Ему больше ничего не надо! Но все же этот пылкий юноша будет одним из первых в очереди у билетной кассы.
— О, счастливая, пылкая юность! — с улыбкой проговорил бургомистр, охваченный воспоминаниями. — И мы были такими, мой дорогой советник! Мы тоже любили! Мы ухаживали! Итак, до вечера. Кстати, вы знаете, этот Фиоравенти — великий артист. Как восторженно его у нас встретили! Он долго не забудет кикандонских оваций!
Речь шла о знаменитом теноре Фиоравенти, вызывавшем восхищение местных меломанов. Этот виртуоз обладал пленительным голосом и прекрасной манерой петь.
Вот уже три недели Фиоравенти пожинал лавры в «Гугенотах». Первый акт, исполненный в кикандонском вкусе, занял целый вечер. Второй акт, поставленный через неделю, был настоящим триумфом для артиста. Успех еще возрос с третьим актом мейерберовского шедевра. Но самые большие ожидания возлагались на четвертый акт, и его-то и должны были исполнять в этот вечер. О, этот дуэт Рауля и Валентины, этот двухголосый гимн любви, где звучали томные вздохи, где crescendo сменялось stringendo и переходило в piu crescendo,[2] этот дуэт, исполнявшийся медленно, бесконечно протяжно. Ах, какое наслаждение!
Итак, в четыре часа зал был полон. Ложи, балкон, партер были битком набиты. В аванложе восседали бургомистр Ван-Трикасс, мамзель Ван-Трикасс, госпожа Ван-Трикасс и добрейшая Татанемаис в салатного цвета чепце. В соседней ложе сидели советник Никлосс и его семейство, в том числе влюбленный Франц. В других ложах можно было увидеть семью врача Кустоса, адвоката Шюта, главного судьи Онорэ Синтакса, директора страхового общества, толстого банкира Коллерта, музыканта-любителя, помешанного на немецкой музыке, сборщика податей Руппа, президента академии Жерома Реша, гражданского комиссара и множество других знатных лиц, перечислять которых мы не будем, дабы не утомлять внимания читателей.
Обычно до поднятия занавеса кикандонцы сидели очень тихо: читали газеты, вполголоса беседовали с соседями, бесшумно разыскивали свои места или бросали равнодушные взгляды на красавиц, занимавших ложи.
Но в этот вечер посторонний наблюдатель заметил бы, что еще до поднятия занавеса в зале царило необычайное оживление. Суетились люди, всегда отличавшиеся крайней медлительностью. Веера дам как-то лихорадочно трепетали. Казалось, все дышали полной грудью. Глаза сверкали, соперничая с огнями люстр, горевшими удивительно ярко. Как жаль, что освещение доктора Окса запоздало!
Наконец оркестр собрался в полном составе. Первая скрипка прошла между пюпитрами, собираясь осторожным «ля» дать тон своим коллегам. Струнные инструменты, духовые инструменты, ударные инструменты настроены. Дирижер, подняв палочку, ожидает звонка.
Звонок прозвенел. Начался четвертый акт. Начальное allegro apassionato[3] сыграно, по обыкновению, с величавой медлительностью, от которой великий Мейербер пришел бы в ужас, но кикандонские любители приходят в восторг.
Но вскоре дирижер почувствовал, что он не владеет оркестром. Ему трудно сдерживать музыкантов, всегда таких послушных, таких спокойных. Духовые инструменты стремятся ускорить темп, и их нужно обуздывать твердой рукой, а не то они обгонят струнные и возникнет форменная какофония. Даже бас, сын аптекаря Жосса Лифринка, такой благовоспитанный молодой человек, вот-вот сорвется с цепи.
Тем временем Валентина начинает свой речитатив:
Я сегодня одна…
Но и она торопится. Дирижер и музыканты следуют за ней, сами того не замечая. В дверях в глубине сцены появляется Рауль, и с момента встречи влюбленных до того момента, когда она прячет его в соседней комнате, не проходит и четверти часа, а между тем до сего времени в кикандонском театре этот речитатив из тридцати семи тактов всегда продолжался ровно тридцать семь минут.
Сен-Бри, Невер, Каван и представители католической знати появляются на сцене слишком поспешно. На партитуре обозначено «allergo pomposo»,[4] но на сей раз торжественности нет и в помине, сцена заговора и благословения мечей проходит прямо-таки в бурном темпе. Певцы и музыканты уже не знают удержу. Дирижер больше не пытается сдерживать их. Впрочем, публика и не требует этого, напротив: каждый чувствует, что он безумно увлечен, что этот темп отвечает порывам его души.