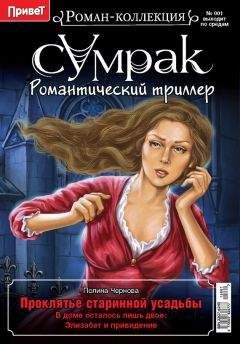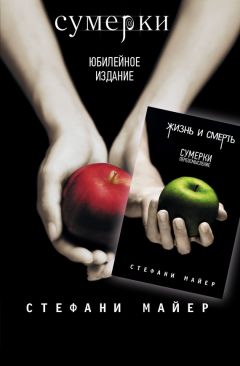Сергей Лукьяненко - Дверь во тьму (сборник)
В бессмысленном остервенении я начал рвать браслет зубами. И почувствовал легкий, приятный запах.
Как я мог подумать, что Мишка уловил запах озона через много часов после выстрела? Озон, трехатомная молекула кисдорода, — одно из самых нестойких соединений. Зато он выделяется при работе электронной аппаратуры и магнитных ловушек, удерживающих плазму.
В мою руку вцепилась смерть. Страшная, огненная смерть, не желающая отпускать добычу. Но меня вдруг перестало это пугать.
Смерть была не моей, она предназначалась Арнису. Папа принес ее мне, пусть и не сознавая, что делает. Немыслимое совпадение стало справедливым благодаря своей немыслимости.
Медленно, как во сне, я пошел к двери. Мягкий ворс ковра… холодок деревянных ступеней…
Я толкнул дверь папиной спальни. И вошел в комнату, где мирно спал усталый антибиотик.
Садясь в кресло у папиного изголовья, я еще не знал, что буду делать. Будить отца; дремать, опустив голову на холодный браслет; или посижу минуту и уйду в лес, подальше от дома. Разницы в этих поступках не было.
Но папа проснулся.
Легко соскочив с кровати, он неуловимым движением включил свет. Чуть-чуть расслабился, увидев меня, и тут же напрягся снова. Вопросительно качнул головой.
— Папка, этот браслет — мина с часовым механизмом, — почти спокойно сказал я — Объяснять долго, я не буду. Но это точно. Он взорвется через сутки после смерти своего первого владельца… примерно. Ты не помнишь, когда вы его убили?
Я никогда не видел, чтобы папа так сильно бледнел. Через мгновение он уже стоял рядом — и сдирал браслет с моей руки.
Я взвыл. Мне было очень больно и немного обидно, что мой умный папа делает такую глупую вещь
— Папа, его не снимешь. Он же на мальчишку рассчитан… Пап, ты не помнишь, у него не было родинки на левой щеке?
Папа взглянул на часы. И подошел к видеофону. Я решил, что он собирается куда-то звонить, но ошибся. Ударом руки папа пробил деревянную облицовочную панель слева от экрана. И вытащил из маленького углубления пистолет с длинным, зеркально поблескивающим, топорщащимся теплоотводами стволом.
Вот теперь мне стало страшно. Десантник, хранящий дома исправное оружие, подлежал увольнению из Десантного Корпуса и крупному штрафу. Если же оружие использовалось — тюремному заключению.
— Пап… — прошептал я, глядя на пистолет. — Папа…
Папа подхватил меня, перекинул через плечо и побежал к двери. Он ничего не говорил — наверное, уже не было времени. Потом мы бежали через сад.
Потом папа запрыгнул в кабину флаера и начал набирать на пульте программу экстренного взлета. Меня он швырнул на заднее сиденье, через секунду бросил туда же пистолет и аптечку.
— Введи себе двойную дозу обезболивающего, — приказал он.
Несмотря на страх, я едва не рассмеялся. Обезболивающее перед взрывом плазменного заряда? Все равно что веером обороняться от носорога.
Но я все же достал две крошечные ярко-алые ампулы. Раздавил в кулаке, сжал пальцы, чувствуя, как лекарство морозным холодком всосалось в кожу. Голова слегка закружилась.
А папа управлял флаером, ведя его на предельной скорости. За прозрачным колпаком кабины выл рассекаемый воздух. Неужели он думает, что нам где-то помогут? Успеют помочь?
Флаер затормозил. Завис в воздухе. Визг форсированных двигателей перешел в мягкий гул. Мы парили в ночном нефе, два человека в крохотной скорлупке из металла и пластика.
— Мы над озером, — сказал папа и непонятно пояснил: — Над лесом нельзя, уйма зверья погибнет. Звери-то ни в чем не виноваты.
Он что-то нажимал на пульте, набирая незнакомые мне команды. Недовольно пискнул блок безопасности, и колпак кабины медленно откинулся. На километровой высоте!
Нас гладил прохладный ночной ветерок. Слегка пахло водой. И озоном, проклятым озоном — не от браслета, конечно, от работающих двигателей.
Папа перебрался на заднее сиденье. Флаер слегка качнулся, и я увидел внизу тускло мерцающую водную гладь.
— Руку, — скомандовал папа. И я послушно положил руку на бортик кабины. Папа сел рядом, всем телом прижимая меня к спинке сиденья. Взял за руку — мои пальцы утонули в папиной ладони. Она была очень холодной. И твердой, как ткань защитного комбинезона. — Не бойся, — сказал папа. — И лучше не смотри. Отвернись.
Мне перехватило дыхание. Тело ослабло. Я понял, что не смогу сейчас пошевелиться. Даже отвернуться не смогу.
Папа взял пистолет, Еще секунду я чувствовал его пальцы. А потом в темноте сверкнул ослепительный белый луч.
Никогда раньше я не знал настоящей боли. Вся боль, которую я раньше испытывал, была лишь подготовкой к этой — единственной, подлинной, невыносимой. Той, которую никогда не должен узнать человек.
Папа ударил меня по лицу, загоняя крик обратно в легкие. Заорал срывающимся голосом:
— Терпи! Сохраняй силы! Терпи!
Я даже не мог закрыть глаза, боль заставила веки раскрыться, а тело выгнуться в мучительной судороге. Я видел свою кисть в папиной руке. И нелепый, жалкий обрубок на месте своего запястья. И серебристый браслет, падающий вниз, в озеро, с этого обрубка.
Прошло секунд пять, не больше. Кабина начала закрываться, а папа нажал на пульте клавишу «03» — срочный полет к ближайшему медицинскому центру. И тут внизу вспыхнуло — пронзительным, жарким, оранжевым светом. Еще через мгновение флаер тряхнуло. И я заметил, как опадает на красно-оранжевом зеркале озера многометровый, сотканный из пара и брызг фонтан.
Папа был прав, как всегда. Над лесом такого делать не стоило — белкам пришлось бы туго. А звери ведь ни в чем не виноваты.
Говорят, что чем сильнее люди любят животных, тем больше они любят людей. Наверно, это до какого-то предела. А дальше все наоборот…
Я пришел в себя на операционном столе. Я лежал раздетый, с присосками датчиков по всему телу. К столу подходили все новые и новые люди. Папа стоял среди них, в белом медицинском халате, и что-то вполголоса говорил. Разговаривали и врачи, склонившиеся над моей рукой:
— Удивительно, как резак оставил такую ровную рану. Крови почти нет, как после лазерного луча…
— Ерунда, откуда на Земле боевой лазер?
Кто-то заметил, что я открыл глаза. Нагнулся к самому лицу, успокоительно произнес:
— Не бойся, дружок, с рукой все будет в порядке. Мы ее вернем на место. Только впредь поосторожнее с инструментами…
И добавил, отвернувшись в сторону:
— Сестра! Кубик анальгетика… и антибиотик. Лучше октамицин, полмиллиона единиц.
Я засмеялся. Боль не стала меньше, она по-прежнему жевала руку раскаленными тупыми клыками. Но я смеялся, уворачиваясь от маски с дурманящим наркозным запахом. И все шептал, шептал, шептал: