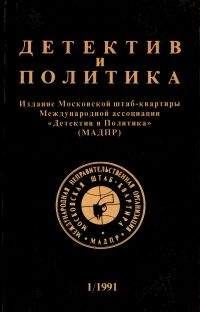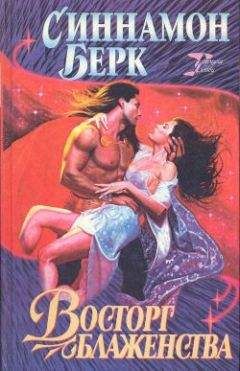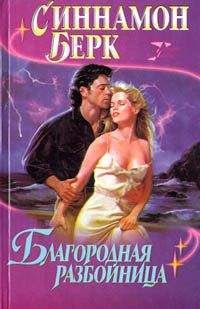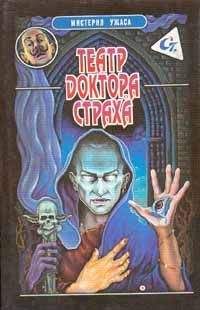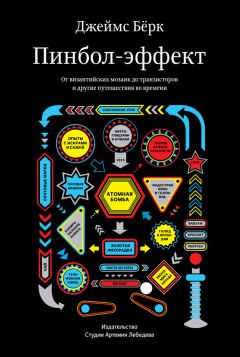Семиозис - Бёрк Сью
– Воды и солнца, – сказал я и устроился с удобством (по крайней мере, физическим) на стуле в оранжерее.
Ответит ли Стивленд? Он почти не разговаривал после нападения, которое случилось тремя днями раньше, и, если он не ответит, мне самому придется пытаться разрешить ситуацию, а у нас всех и без того хватает забот. Ему следовало бы быть более внимательным. И в то же время именно нам, оставшимся в рабочем состоянии, следовало оберегать разбитых.
Я разложил книги и бумаги. Солнце отразилось от обломанных краев купола из стеклянных блоков: дыра небольшая, но ее оказалось достаточно, чтобы превратить оранжерею в совершенно иное, неуютное помещение. На улицах обломки стекла и черепки керамики все еще валялись на перекрестках и в палисадниках, а несколько домов превратились в выжженные коробки, воняющие дымом. Все койки клиники были заняты.
Я закрыл глаза, прислушиваясь к невеселым голосам на улице, в том числе и фырканью и свисту стекловского. Всего три дня назад весь город был в разрухе. С тех пор мы успели похоронить мертвых и постарались возобновить нормальную жизнь, но все еще носили старую одежду в знак траура. Тротуары были в пятнах крови. Полное восстановление займет годы.
На улице пронзительно заверещал стекловар. На мгновение я вернулся в ту ночь: Беллона выкрикивает приказы, на меня несутся основные, Люсиль умоляет… Нет, нельзя. Я распахнул глаза. Меня ждет работа.
Мне не хотелось брать на себя обязанности адвоката Стивленда, но кто-то ведь должен был защищать его на назначенном судебном слушании, и я на эту роль подходил лучше всех. Мне больше всех хотелось нанести Сосне поражение. Но для этого ему надо сотрудничать, говорить со мной.
Я набрал в грудь воздуха, собираясь ему об этом заявить, но тут вспомнил, что Татьяна – да покоится она с миром! – никогда не спешила говорить. Стивленд знает, зачем я пришел. А ведь он даже не произнес панегирик на похоронах Люсиль, что было откровенной халатностью. Большинство людей ему это простили, ведь он спас город, хотя и не самостоятельно. Он продолжал выполнять свои обязанности в клинике и делал минимальные отчеты на ежевечерних заседаниях комитета – и, возможно, был слишком истощен или опечален, чтобы делать что-то еще. Горе сломило немало людей, но ведь он – модератор, и он нам нужен.
Я подготовил небольшую речь, чтобы его укорить. Как сказали психологи, разговоры помогают – как и то, что ты просто продолжаешь жить. Дни, заполненные делами и обязанностями, – вот к чему стремился я сам, и как плотнику мне было что ремонтировать. Другие могли растворять свои вечера в трюфеле или корнях лотоса, лежать в постели, не в силах пошевелиться, или бродить ночами без сна, плача или бросаясь непонятно на что. Вот только в укорах нет смысла. Мы все страдаем.
Я снова посмотрел на Конституцию. Она оказалась ущербным документом, но я все же заставлю ее работать. Я представил себе, как буду говорить вечером на собрании: «От лица Стивленда»… Что я скажу? Хватит тянуть.
– Совершенно очевидно, – начал я, приготовившись говорить сам с собой, если придется, – у нас нет прецедентов снятия модератора с его поста. Случай с Верой здесь не применим…
Он прервал меня:
«Веру не снимали голосованием».
Что ему об этом известно? Я уже год подумывал над написанием истории Мира (в меру моих способностей), чтобы нам стало понятнее, с чего мы начали и к чему идем. Но если кто-то и читал старые записи, то разговоров об этом не было – и я тоже об этом не говорил. Бунт Сильвии был совершенно не похож на голосование, а официальная история была почти что ложью. Но об этом Стивленда можно будет расспросить в другое время.
– Сейчас это неважно. Наш вопрос…
«Я сложу с себя полномочия. Признаю себя виновным и выйду в отставку».
– А вот и нет!
Скорбь всех лишила душевного равновесия, но мне это уже стало надоедать. И я уже этому завидовал. Но я не собирался вручать Сосне победу.
«Ты не можешь мне приказывать», – заявил он.
– Могу сказать, что тебе следует делать. Во-первых, ты не знаешь, в чем именно тебя обвиняют. Во-вторых, ты не правоспособен, чтобы делать заявление как ответчик.
После небольшой заминки он написал:
«Тогда я не правоспособен, чтобы быть модератором».
– Интересный парадокс. Но неуместный, как я считаю. Сосна хочет, чтобы против тебя голосовали. Моя обязанность – быть твоим защитником на этом процессе. И точка. Я считаю, что ты спас нас от катастрофы. Я считаю, что Сосна воспользовалась нападением, чтобы…
«Это я был причиной катастрофы, и множество людей, стекловаров и растений погибли из-за меня. Моя ошибка убила твоего сына, потому что я не был в состоянии дать предостережение».
– Моего сына убили сироты. Ты спас жизнь мне и множеству других людей.
На его стволе начали проявляться какие-то слова.
– Я не собираюсь обсуждать твою отставку.
И я не собирался тратить ночь на еще одно бессмысленное обсуждение.
«Тогда обсуждать нечего».
– И тем не менее мне нужно кое-что тебе растолковать, а тебе – сделать определенный выбор. Сейчас нам надо обговорить процедуру, которую, к сожалению, Конституция не предусматривает. Наш долг перед всем Миром – создать оптимальный прецедент.
Никакой реакции.
– Так что от твоего лица я потребую пошагового процесса. Пусть Сосна подаст письменную жалобу, которую будет рассматривать комитет. Мы можем запросить слушание или судебное разбирательство. Все, что ты мне скажешь, будет самой глубокой тайной. Я буду стараться давать тебе как можно более правильные советы.
«Однако ты не желаешь следовать моим указаниям».
– Я твой адвокат, а не слуга. Ты готов настаивать на тщательном разбирательстве?
«Если это полезно Миру».
– Хорошо. Сегодня вечером на заседании комитета я буду говорить от твоего лица.
Я начал собирать бумаги: мне еще предстояли ремонтные работы, а потом – встреча с внуками.
«Апельсиновые деревья надо срубить, – напомнил он мне. – Всю рощу».
– Да. Мы были заняты, но мы не забыли. Древесину надо пустить на памятник, но мы пока не решили, как именно. У тебя есть предложения?
Никакого ответа.
Я встал.
– Тогда до заседания. Воды и солнца.
Он не ответил мне обычным пожеланием тепла и пищи. Мне следовало обидеться или встревожиться?
Когда я был мальчишкой, то однажды принялся вытаптывать ростки радужного бамбука – без всякой причины, просто из мальчишеского озорства, когда что-то портишь просто потому, что это можно испортить. Потому что в том возрасте для меня почти все было новым. Потому что в том возрасте вытаптывание растения представлялось подходящим способом утвердить свою власть над окружающей средой.
Сильвия меня увидела и взяла на руки. Ее лицо – тогда она была того же возраста, что я сейчас, – показалось мне невообразимо старым… И оно было невообразимо грустным.
– Радужный бамбук – наш друг, – сказала она. – Мы дружим со многими растениями, но он – наш особый друг. Ты знаешь, что он может с нами разговаривать?
Я успел заметить, какой это вызвало ажиотаж. Я кивнул, не решаясь говорить.
– Как ты думаешь, что он мог бы сказать? – Она спустила меня на землю и сделала вид, что собирается наступить мне на ногу. – «Ой, нет, ты меня топчешь!» Ты должен думать о том, что делаешь. Иначе ты можешь случайно сделать больно своим друзьям. Мы все должны помогать друг другу. Если мы делаем что-то плохое друг другу, мы делаем плохо и себе тоже.
– Прости! – прорыдал я.
– Это надо сказать бамбуку, – сказала она и повела меня к главным воротам, где листья на высоких стволах все еще хранили радугу красок, а стволы возвышались надо мной, словно великаны.
Я знал, что бамбук заполнил город и немалую часть земли вокруг него. Я снова прорыдал, что мне стыдно, очень стыдно, – но в то же время не мог понять, как нечто столь маленькое (я) может быть важным для чего-то настолько большого. Все равно, как если бы я особо интересовался каждой гусеницей на полях.