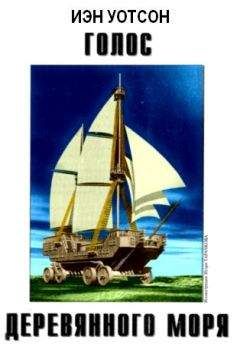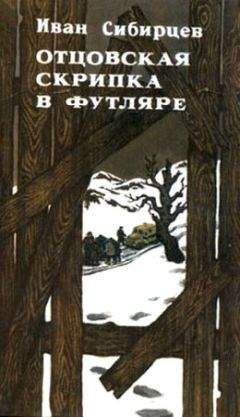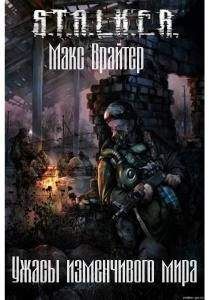Иван Сибирцев - Сокровища Кряжа Подлунного
— Вот на это вы надеетесь совершенно напрасно, — резко бросил Стогов, но Шеф жестом остановил его:
— Не спешите с декларациями, господин профессор, и запомните на будущее, что в этом доме говорю только я, спрашиваю тоже только я. Все остальные могут это делать лишь с моего разрешения.
Стогов молчал, с явным любопытством разглядывая своего собеседника Не уловив иронических искорок в глазах профессора и истолковав его молчание, как признак подавленности, Шеф, все так же позируя, медленно вместе с кольцами табачного дыма цедя слова из полуоткрытых губ, начал:
— Прошу, господин профессор, принять мои извинения за не совсем вежливое обращение с вами моего человека при транспортировке вас в мою резиденцию. Прошу вас также принять мои уверения, что впредь с вами ничего подобного не произойдет.
При этих словах Шефа Стогова сразу всколыхнула ярость…
Вновь воскресло в памяти воспоминание, которое жгло его мозг долгие часы в совершенно темном подвале… Когда это было? Ах, да, в субботу вечером. Сейчас Стогов не знал, сколько дней и ночей прошло с того вечера. Границы суток стер мрак сырого подвала, в котором Михаил Павлович очнулся с цепочкой на руках, прикованный толстой цепью к стене.
Но что предшествовало этому? Ронский сообщил, что художник Дюков хочет передать ему письмо и вести от Ирэн. Он встретился с этим художником. Терпеливо, хотя сердце и предсказывало что-то недоброе, слушал сбивчивый, путанный рассказ этого холеного, все время улыбавшегося человека. Вдруг под окном дома раздался протяжный вой автомобильной сирены. И в то же мгновение художник вскочил и с силой прижал к его лицу что-то холодное, липкое, остро и дурманяще пахнувшее.
Потом было возвращение к жизни в этом темном подвале, редкие визиты молчаливого старика, которого он принял за глухонемого. Старик приносил ему еду, светил, пока он ел, слабым синим фонариком, собрав чашки, уходил. Стучала тяжелая, окованная металлом дверь, и снова начинался этот непроходящий кошмар тишины и темноты…
Но воспоминаниям предаваться было некогда. Шеф излагал, видимо, свое философское кредо. Стогов стал прислушиваться.
— Человеческие отношения, — неторопливо разглагольствовал Шеф, — всегда и везде строились на страхе слабых перед сильными, реже — на преклонении фанатиков, уверовавших в некую истину, перед всякого рода мудрецами, пророками, ясновидцами и прочими спасителями человеческого рода. Однако на смену одним религиям и учениям приходили другие, слава пророков и мудрецов таяла, умирала. Но во все времена, среди всех племен жила и живет непреходящая, бессмертная слава потрясателей вселенной. Кому, кроме немногих ученых чудаков, известны сейчас имена Эпикуров и Демокритов, зато каждый школьник знает и чтит имена Атиллы и Чингисхана. Они вселили ужас в сердца современников. Этот ужас отраженным светом горит в сердцах потомков.
Шеф сделал паузу, посмотрел на строго глядевшего на него Стогова и, вновь истолковав его молчание как признак подавленности, продолжал даже с некоторым ораторским пылом:
— Страх, трепет слабых перед сильными — это перпетуум-мобиле человеческого прогресса. Они всегда внушались только силой и беспощадностью.
Всемогущее провидение наделило вас, господин профессор, знаниями и властью над силами, перед которыми меркнут, тускнеют все силы человеческого могущества — от меча до атомной бомбы. Ныне в вашей власти сделать землю такой, какой вам хочется ее видеть. Так обретите же себя! Явите людям свое могущество над ними, и они преклонятся перед вами. Считайте меня вестником вашей судьбы. Я открою вам путь к безграничной, божественной власти!
В первую минуту Стогову стало жутко, именно до боли жутко от этого ничем не прикрытого, чудовищно обнаженного культа силы и разрушения. Он впервые сталкивался со столь открытым цинизмом. На своем веку он повидал немало субъектов, подобных сидевшему сейчас перед ним. В те дни, когда Михаил Павлович был экспертом советской делегации на конференции по запрещению ядерного оружия, эти господа произносили немало речей о страхе перед силой как факторе человеческого прогресса. Но там, на дипломатической трибуне, кровавая сущность их философии хоть прикрывалась, маскировалась внешне невинными фразами. Сейчас его незваный собеседник прямо и открыто повторял одно: разрушать!
Хотелось вскочить, вцепиться в горло этого философствующего негодяя. Но нужно было понять его конкретные планы. И Стогов овладел собой. Ничто, ни один мускул на его лице не выдал в этот миг врагу клокотавшие в нем чувства. Он даже сам удивился, как просто и естественно прозвучали его слова:
— Что же, конкретно, вам угодно от меня в обмен за столь блестящую перспективу?
И снова Шеф со всей его многолетней профессиональной интуицией разведчика не разгадал ни истинного настроения, ни истинного смысла вопроса Стогова, который, затаив дыхание, сжавшись, ожидал ответа. Ответ должен был приоткрыть завесу над замыслом врага, и он прозвучал так, как хотел того профессор.
— О, совсем немного, друг мой, — весело, почти фамильярно пояснил Шеф. — Для начала нам нужна принципиальная схема этого вашего детища — ТЯЭС или как там вы ее называете. Это требуется нам для того, чтобы с вашей, конечно, помощью внести в эту схему некоторые легкие коррективы и устроить грандиознейший фейерверк в честь вашего вступления на путь властителей мира. Кстати, в связи с суматохой по случаю этого фейерверка мы с вами успеем уйти в то безопасное место, о котором я вам уже говорил, или, выражаясь языком ваших русских гангстеров, — «тихо смыться».
Шеф расхохотался, весьма довольный своей остротой. Наступила давящая тишина.
Чуть откинувшись на спинку стула, Стогов молчал. Сложные чувства роились в его душе. Несколько слов, легко, с полуулыбкой на губах произнесенных небрежно сидевшим напротив человеком, глубоко потрясли профессора.
Стогов теперь ясно видел, чего хочет враг. Под угрозой разрушения было самое любимое его, Стогова, детище, цель и мечта всей его жизни.
Никто лучше Михаила Павловича не знал исполинской мощи горящей в солнцелитовом реакторе плазмы из дейтерия и трития. Эта фантастическая мощь, зажатая в тесные рамки реактора, строго контролируемая и направляемая людьми, могла стать и уже становилась источником величайшего блага для всего человечества. Она несла людям огромное количество тепла и света, она сулила изобилие и радость миллионам. Свое Земное, зажженное человеческими руками Солнце, зажженное там, где оно было нужнее всего: в царстве льдов и снегов — великая сила, преображающая лик Земли!.. Что могло быть выше, прекраснее этой цели?!