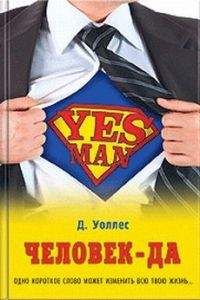Лестер Дель Рей - Звезда по имени Нора. Заповедная зона
Он все еще не освоился с мыслью, что Шнейдер и есть офицер военной разведки. Ну понятно, это мог быть любой из семерых американцев. Но Шнейдер!
— Правильно. Если сумеете завладеть кораблем, постарайтесь сесть в Калифорнии, в Уайт-Сэндсе, где мы тренировались. Объясни тамошним властям, при каких обстоятельствах я передал тебе полномочия. Вот почти и все; еще только два слова. Если ты тоже заболеешь, хорошенько подумай, кому передать бразды правления… Я сейчас предпочитаю ограничиться тобой. И второе… может быть, я ошибаюсь… но мне кажется, у русских ту же роль играет Федор Гуранин.
— Ясно. — И только тут до О’Брайена по-настоящему дошло. — Но ведь ты говорил, что впрыснул себе лекарство. Значит…
Шнейдер поднялся, кулаком потер лоб.
— Боюсь, что так. Вот почему вся эта церемония довольно бессмысленна. Но у меня были обязанности, я должен был передать их другому. Я и передал. А теперь извини, я лягу. Желаю удачи.
О’Брайен пошел доложить капитану о болезни Шнейдера; теперь он понимал, что чувствовали во время обеда русские. Сейчас против шести русских остались пятеро американцев. Это может плохо кончиться. И за все в ответе он.
Но у каюты капитана, уже взявшись за ручку двери, он пожал плечами. Невелика разница! Как сказал толстяк Шнейдер: «Допустим, через неделю кто-нибудь из нас еще останется в живых…»
По сути, международное положение на Земле и все то, чем оно грозит миллиардам людей, их тут больше не касается. Нельзя рисковать занести марсианскую болезнь на Землю, а раз они не вернутся, нет надежды найти лекарство. Они прикованы к чужой планете, и остается ждать, пока их одного за другим не скосит недуг, последние жертвы которого погибли тысячи лет тому назад.
А все-таки… неприятно быть в меньшинстве.
К утру он уже не был в меньшинстве. За ночь еще двоих русских свалила непонятная хворь, которую теперь все называли «болезнью Белова». На ногах остались пятеро американцев против четверых русских, но теперь никто уже не думал о национальности.
Гоз предложил столовую (она же спальня) превратить в больницу, а всем здоровым перейти в машинный отсек. И поручил Гуранину наскоро оборудовать перед машинным отсеком камеру для облучения.
— Всем, кто ухаживает за больными, надевать скафандры, — распорядился он. — Перед возвращением в машинный отсек становиться под лучевой душ наибольшей мощности. Только после этого можно пройти к остальным и снять скафандр. Это не слишком сильное средство и, боюсь, подобными предосторожностями такой страшный вирус не уничтожить, но мы хотя бы не сидим сложа руки.
— А может, попробуем связаться с Землей, капитан? — предложил О’Брайен. — Хотя бы сообщим, что случилось, это пригодится будущим экспедициям. Я знаю, для такой дали наш радиопередатчик слаб, но, может, смастерить что-то вроде маленькой ракеты и вложить в нее письмо? Может, когда-нибудь ее подберут?
— Я об этом уже думал. Задача нелегкая, но, допустим, нам это удалось, а вдруг вместе с письмом мы переправим на Землю и вирус? А на Земле сейчас обстановка такая, не думаю, что там снарядят новую экспедицию, если мы не вернемся. Вы знаете не хуже меня, что месяцев через восемь, через девять… — Капитан умолк на полуслове. — У меня немного болит голова, — тихо добавил он.
Все вскочили — даже те, кто весь день ходил за больными и прилег отдохнуть.
— Вы уверены? — с отчаянием спросил Гуранин. — Может быть, это просто…
— Уверен. Что ж, рано или поздно этого не миновать. Думаю, каждый из вас выполнит свой долг и все вы будете работать слаженно. И любой из вас способен меня заменить. Так вот. Если понадобится слово командира, если надо будет принимать какие-то решения, капитаном будет тот из вас, чья фамилия — последняя по алфавиту. Старайтесь то время, что вам еще осталось, жить в мире. Прощайте.
Он повернулся и пошел из машинного отсека в больницу. Безмерная усталость была в его худом смуглом лице и придавала ему странное величие.
В этот вечер к ужину на ногах остались только двое — Престон О’Брайен и Семен Колевич. В каком-то отупении они ухаживали за больными, умывали их, перекладывали, делали уколы.
Все это лишь вопрос времени. Когда и они свалятся, о них уже некому будет позаботиться.
И все же они добросовестно делали свое дело и старательно подставлялись в скафандрах под лучевой душ, прежде чем вернуться в машинный отсек. Потом у Белова и Смейзерса началась третья стадия болезни — совершенное оцепенение, и штурман отметил это в тетради доктора Шнейдера, под колонками температурных записей, напоминающих биржевой курс в день, когда Уолл-стрит особенно лихорадит.
О’Брайен и Колевич молча поужинали. Они всегда были не слишком симпатичны друг другу, и оттого, что остались только вдвоем, взаимная неприязнь еще усилилась.
После ужина О’Брайен сел к иллюминатору и долго смотрел, как восходят и закатываются в черном небе Марса Фобос и Деймос. За спиной у него Колевич читал Пушкина, пока не уснул.
Наутро О’Брайен нашел своего помощника на больничной койке. У Колевича уже начался бред.
«И остался лишь один», — вспомнил О’Брайен песенку про десять негритят. Что-то будет с нами дальше, друзья, что-то будет дальше?
Он снова принялся за обязанности санитара и поминутно заговаривал сам с собой. Все-таки лучше, чем ничего, черт возьми! Так легче забыть, что ты единственный человек в здравом уме на всей этой красной, пыльной и ветреной планете. Так легче забыть, что скоро умрешь. Так легче сохранить какое-то подобие рассудка.
Потому что это конец. Ясно, конец. Ракета рассчитана на экипаж в пятнадцать человек. В крайности ею могли бы управлять всего пятеро. Допустим, двое или трое, носясь взад и вперед как сумасшедшие и проявляя чудеса изобретательности, еще ухитрились бы привести ее к Земле и кое-как посадить, не разбив вдребезги. Но один…
Даже если ему и дальше повезет и «болезнь Белова» не свалит его с ног, с Марса ему не вырваться. Он останется здесь, пока не иссякнут запасы еды и кислорода, и корабль станет для него медленно ржавеющим гробом. А если заболит голова… Что ж, неизбежная развязка наступит куда быстрее.
Это конец. И ничего тут не поделаешь.
Престон О’Брайен бродил по кораблю, который вдруг сделался огромным и пустым. Он вырос на ранчо в Северной Монтане и всегда терпеть не мог толчею и многолюдье. Во время перелета его постоянно, точно камешек в башмаке, раздражала необходимость вечно быть на людях, и однако теперь безмерное, последнее одиночество угнетало. Стоило прилечь — и снились переполненные трибуны в дни бейсбольных матчей или душная, потная толпа в нью-йоркском метро в часы пик. А потом он просыпался, и одиночество снова обрушивалось на него.