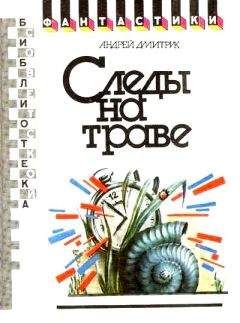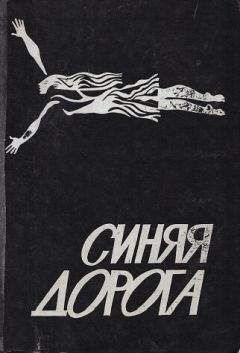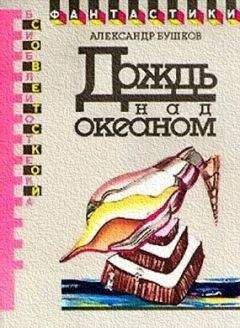Альберт Валентинов - Синяя жидкость (сборник)
— Вот это другой разговор! — радостно восклицает Борис. Он не хочет сориться, я ему еще нужен. И на часы он больше не посматривает. Понял, что что-то помешало его соратникам прийти, и успокоился. — Между прочим, Татьяна сегодня спрашивала о тебе. Видно, старая любовь крепка. — Он грозит мне пальцем, но шутливого жеста не получается. Внезапно я понимаю, как он меня ненавидит. Его буквально корчит от унижения.
Мы закуриваем, оставляя пачки сигарет на столе, и я наполняю рюмки. Если у Бориса мелькнет хоть тень сомнения, я выпью первый. Но нет, он ничего не подозревает. Чокаемся. Он выпивает залпом и привычно причмокивает. Сует пачку сигарет в карман, другой рукой тянется за яблоком. Но движения эти уже наполовину рефлексные, неосознанные. Потом лицо его багровеет, челюсть отвисает и с хрустом уходит куда-то вбок, глаза выкатываются — страшные, мутнеющие глаза, В них ужас последнее человеческое чувство… И я выдержал это.
Хотелось бы мне просто однажды проснулся и почувствовал себя другим человеком. Но одно слово «свидание» выбило меня из колеи.
Растратчики знали мою историю — в тюрьме все обо всех знают — и жалели меня, как в деревнях жалеют дурачков. Так прямо и говорили: большой пост занимал человек, жену ему начальник отдавал, тут только и гужеваться. А он на мокруху пошел, идиот!
В дни свиданий к ним приходили женщины, с которыми они прокучивали казенные деньги, передавали увесистые посылки с продовольствием, и они по-братски делились со мной. И я порядком изумился, когда однажды надзиратель выкрикнул мою фамилию.
Это были Левины. Они стояли за стеклом, почему-то в темной одежде, как на похоронах, и с упрямо-независимым видом оглядывались вокруг, готовые, чуть что, дать отпор, хотя никто не обращал на них внимания. Увидев меня, Гриша не удержался и вытаращил добрые близорукие глаза, а Женя заплакала. Я и сам знал, что вид у меня непрезентабельный — костюм помят, волосы острижены, виски обсыпаны сединой.
— Ну, ну, Женечка, не надо, — сказал я, стараясь, чтобы голос не срывался. — Не так все это страшно. Очень рад, что пришли.
Но она долго не могла успокоиться, то и дело поднося платок к покрасневшим глазам.
— Юрий Дмитриевич, сотрудники просили передать тебе привет, — неловко сказал Гриша, явно не зная, о чем говорить. Очевидно, у них был отработан целый план по дороге, но он, разумеется, все перепутал и начал не с того. Я понял это по тому, как Женя на него взглянула.
— Спасибо, — сказал я. — Как там у нас, пятилетку утвердили на коллегии?
— Утвердили, утвердили, — радостно затараторил он. — Почти один к одному прошло. Так, мелкие добавления внесли. Правда, никто не знает, что от нее останется: теперь ведь новое планирование будет, от предприятий, но пока у нас все по-старому. И в отделе все по-старому, только Иван Афиногенович ушел на пенсию.
Этого не следовало говорить. Женя двинула его кулаком под ребра, но было поздно.
— Иван Афиногенович?! — изумился я. — Чего это он вдруг? А-а, понимаю, понимаю… Испугался старик. Как же так, ручался за мою порядочность следственным работникам — и на тебе!
— Ну что вы, что вы, Юрий Дмитриевич, совсем не так, заговорила Женя, через силу улыбаясь. — Знаете, что он сказал, прощаясь? Ну, выпили, конечно, за закрытыми дверьми, как полагается, старик раскраснелся и выдал речь. Если уж, говорит, такие люди, как товарищ Корнев, вынуждены прибегать к подобным мерам, значит, я так ничего и не понял в этом мире. И просил передать, что, несмотря ни на что, по-прежнему глубоко уважает вас. Честное слово!
— Спасибо! — Я проглотил горячий комок. — Женя не лгала, а значит… Значит, все было не напрасно.
— Юрий Дмитриевич! — Женя придвинулась вплотную к стеклу. — Мы никогда не забудем, что вы для нас сделали. Будем посылать вам посылки. Мы и сейчас принесли кое-что: теплые вещи, покушать… А когда вернетесь, обязательно к нам. В лепешку расшибемся, а поможем.
— Спасибо, Женечка! — Я весь обмяк, так был растроган. Только боюсь, вам тогда будет не до меня: детишки пойдут один за одним…
Ого, как она покраснела! Угадал, честное слово, угадал: наверняка начало положено.
Когда меня уводили, они махали руками, как на вокзале. А я шел в камеру и улыбался. Не так, как улыбаются в тюрьме: с угрозой или наоборот, рабски, льстиво — я улыбался, как человек, выбравшийся к заре из подземелья. Жизнь идет! Жизнь идет, расшвыривая все наносное, устаревшее, отжившее, ненужные условности, искусственно привитые взгляды, смешную допотопную мораль — и к убийце приходят с благодарностью, честные люди к честному человеку. Век обгоняет время, нервный век, интересный век, самый интересный для будущих историков. Век, который стал водоразделом для человечества, создал новую породу людей, и кто знает, не от него ли потомки начнут вести летосчисление…
Почему-то эта мысль о потомках и будущих историках гвоздем засела в голове, и я не сразу уяснил смысл слов, летевших из динамиков, установленных через равные промежутки в коридоре.
«Ряд министров, стремясь сохранить ключевые позиции в своих отраслях, вступили на неверный путь организованной оппозиции перестройке. В связи с этим принято решение о коренном изменении структуры управления народным хозяйством…»
Меня вели по коридору, и слова летели навстречу, нарастая, как каменная лавина. И затихали за моей спиной обессиленные, отдав страшную информацию. А навстречу уже летела другая лавина, еще более грозная.
«…Учитывая тяжесть содеянного, к уголовной ответственности привлекаются бывшие министры, другие руководители различных рангов…»
Среди прочих фамилий была названа и фамилия Теребенько.
И наконец последний лавинный залп.
«…В связи с тем, что организатор и руководитель оппозиции, бывший начальник всесоюзного производственного объединения Гудимов умер, уголовное дело в отношении него прекратить».
Черт побери, так зачем же я… Дурак, куда ты полез. Тоже мне, защитник перестройки! Помог Гудимову уйти от процесса… Но странное дело: ругая себя, я ничуть не жалел о содеянном.
А через несколько дней меня вызвали вновь. Пришла Таня. Вот когда я испугался, даже коленки затряслись.
— Здравствуй, — сказала она и замолчала. Я тоже молчал, не зная, что сказать женщине, мужа которой я убил.
— Как тебя здесь кормят? — спросила она наконец.
Я пожал плечами. Дамский вопрос! Как кормят в тюрьме…
— Пирожные ему здесь дают и какаву с молоком, — захихикал дежурный надзиратель Ерофеич, поганый старик, считавший заключенных врагами народа, из-за которых мы никак не можем прийти к светлому будущему. Зэки платили ему дикой злобой.