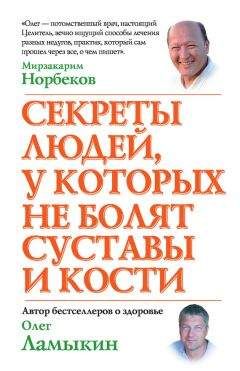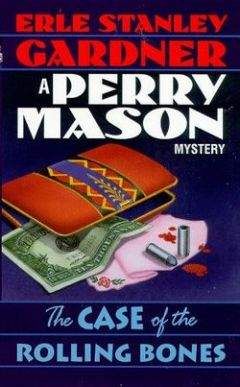Павел Амнуэль - Дорога на Элинор
— Пальцы, — пробормотал Терехов, — пальцы, собравшиеся в кулак, чтобы подумать, как жить дальше. А тем временем мозг…
— Вот именно! — воскликнул Пращур. — Ты точно это определил, Володя, вот что значит писатель! Пальцы! Но, в отличие от этих пальчиков, — он вытянул руки, — тупых и безмозглых, мы с вами — пальцы думающие, обладающие свободой воли, или мы не люди? И — одновременно — мы участвуем в общем процессе мышления. Это просто. Очень. Давайте?
Пращур уговаривал. Он смотрел каждому в глаза и просительным тоном рассказывал, как будет замечательно, когда они перестанут ощущать себя людьми, наделенными свободой воли и собственным разумом, и почувствуют, какие они на самом деле ущербные пальцы, кому-то и где-то принадлежащие, и тогда у них все получится, то есть, на самом деле получится не у них, потому что их не будет, а у того, кому они принадлежат по такому же естественному праву, как человеку принадлежат его ладони и его плечи, и печень, и сердце в груди.
На мгновение Терехов вернулся из себя, уходившего, к себе, какого знал всю жизнь. Он прощался с собой, и, будто перед мысленным взором умирающего, перед ним прошли прожитые им годы (он любил роман Уайльдера «Мост через ручей Людовика Святого», много раз его перечитывал и сейчас увидел себя, листавшего потрепанные страницы, было это седьмого ноября тысяча девятьсот восемьдесят пятого года, в десять часов утра, он почему-то вспомнил это точно — родители были еще живы и ушли на демонстрацию, они любили уличные шествия, а Терехов терпеть не мог, и он закрыл все окна, чтобы не слышать шума, лежал на диване, перелистывал Уайльдера в серии «Классики современной прозы», книга вышла недавно, но была уже зачитана до такой степени, что несколько листов вываливались и их приходилось осторожно вкладывать обратно).
Лента жизни оказалась рваной, неправильно смонтированной, годы и события путались, но он не терялся в хаосе, прекрасно знал, что, когда и где случилось — и это, и то, и еще совсем другое, будто на возникшем перед ним экране в каждом кадре невидимо для глаз, но ясно для внутреннего зрения, стояли даты, даты, даты… с точностью до часов, иногда минут и даже секунд. Как тогда, когда в двенадцатилетнем возрасте он дал подножку на перемене своему самому страшному школьному врагу Димке Бирюку, Димка упал головой вперед и остался лежать неподвижно, а дело было в сумрачном закутке коридора второго этажа, около боковой, всегда запертой, лестницы, никто Димку не видел, и Терехова, притулившегося в нише, где стояли швабры, не видели тоже, он мог убежать, оставив врага на поле боя, но мог остаться, подойти, помочь (а вдруг Бирюк совсем умер? — мелькнула мысль) — и крепко получить по носу (вдруг Бирюк просто притворялся?).
Время было девять часов тридцать восемь минут и сорок секунд, перемена между вторым и третьим уроками, и для решения у Володи Терехова было секунд десять, не больше, тогда он этого не понимал, а сейчас знал точно, и сейчас ему казалось, что мысли в его черепной коробке шевелились медленно-медленно, как неживые, а тогда — помнилось — соображал он лихорадочно быстро и не соображал даже, а скорее внутренним инстинктом выбирал из двух решений, и выбрал наконец, бросился к Димке из своего закутка, дрожавшими руками перевернул на спину, ожидая увидеть что-то страшное, а увидел хлопавшие в испуге глаза.
«Эй, — сказал Бирюк, — ты чего? Без тебя встану».
«Я хотел»…
«Поскользнулся, наверно, — задумчиво сказал Димка, поднимаясь на ноги. — Пол скользкий»…
Терехов тихо отступал — подальше от греха и от выяснения отношений, но решение уже было принято, и, отойдя на относительно безопасное расстояние, Володя сказал:
«Это я тебе подножку подставил».
«А? — сказал Бирюк. — Ты что, с глузду съехал?»
«Не, — сказал Володя, — просто бежал ты быстро».
«А, — сказал Бирюк. — Я всегда быстро бегаю. Быстрее тебя».
Разговаривая, они шли по коридору, прозвенел звонок, и нужно было торопиться — историк Игорь Константинович не любил, когда кто-нибудь входил в класс позже него, и сразу вызывал к доске, а про Киевскую Русь Терехов не прочитал ни строчки, похоже, что Бирюк тоже, и, покосившись друг на друга, они резво припустили по коридору. Димка, конечно, оказался быстрее и вбежал в класс первым, Володя за ним, хлопнув дверь и едва не ударив входившего учителя по носу…
Точно, — подумал Терехов, — именно тогда и так все было, кроме… Действительно, все точно, но… Что-то не так, это было его воспоминание, его жизнь, но все-таки… Да, вот: не признался он Бирюку, что подставил ему подножку, хотел признаться, но промолчал. Димка, может, все сам понял, а может, и нет.
Жизнь была его и не его в то же время. Он прожил жизнь еще раз — и тот ужасный день, когда вышла его книга «Вторжение в Элинор». Он увидел томик на прилавке расположенного рядом с домом книжного магазина и понял, что завершился этап и нужно сделать то, ради чего заставил вчера Жанну купить моток не нужной в хозяйстве бельевой веревки.
Не то чтобы ему не хотелось. Напротив, каждая клетка в его теле была готова к этому, и если бы он вдруг раздумал, то его постигла бы страшная болезнь, организм не мог больше существовать в прежнем ритме, настроился на перемену участи, и нельзя было его обманывать, да и невозможно.
Только звонить Терехову было совершенно не обязательно. Это не было театральным жестом — пусть, мол, помучается, пока не поймет истинной причины произошедшего, — но и необходимости в звонке тоже не было. Не дурак Терехов, сам все поймет в свое время.
Позвонил. Свернул петлю, попробовал веревку на прочность, пытаясь разорвать ее руками — не получилось, конечно, — приладил на крюк в кухне, подставил табурет, все приготовил, а потом, будто в голову хмель ударил: набрал знакомый номер и, услышав голос — свой голос, неузнаваемый в путанице телефонных линий, — произнес театральную фразу, не продуманную заранее. Бросил трубку и сунул голову в петлю с таким душевным восторгом, будто не с трехмерным телом расставался, а напротив, получил, наконец, главный жизненный приз и готовился растратить его, не думая о последствиях.
Он предполагал, что будет больно — перелом шейных позвонков, что ни говори, — и воздуха станет катастрофически недостаточно, а на самом деле организм его уже был подготовлен к миссии, сознание отключилось, едва упала табуретка, а потом включилось опять, и что происходило между этими двумя мгновениями, Ресовцев не помнил — мир перед его глазами возник, как после перерыва в показе фильма. Кадр, темнота, и — следующий кадр.
Он был собой, но другим, он чувствовал себя старше лет на двадцать, тело было другое, руки-крюки, в голове тупой гул, и с глазами тоже что-то случилось, он не так ясно видел, туман какой-то, не мешавший на самом деле смотреть и различать детали, но висевший подобно прозрачному занавесу.