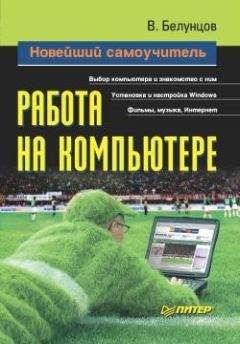Сергей Снегов - Право на поиск (сборник)
Я закрываю глаза и снова вижу ту узкую комнату: две боковые стены в сиреневых — в полутон — обоях, входная дверь, задернутая портьерой, и окно шире двери. А в окне, в оранжевой брусчатке, как в броне, главная университетская площадь, отделяющая общежитие от учебных корпусов. И в комнатке четверо: Адель за столом, Эдуард на диване, я на стуле возле стола, а Кондрат на любом свободном месте и всегда стоит — это, он объяснял, дает некоторое впечатление ходьбы. Он хмуро молчит, выслушивает нас и сердится, если что не так. Больше всех достается мне, он почему-то придает особое значение каждому моему слову. А я слушаю вполуха и украдкой любуюсь профилем Адели. Я уже упоминал, что она тогда была далеко не той красавицей, какой ныне стала. "Миловидная, и только", — говорили о ней не одни девушки, но и парни. Хотя профиль у нее и тогда был прекрасен ровная линия высокого лба, с легкой горбинкой нос, губы, похожие на красный цветок, и точно соразмеренный подбородок. В общем, древние скульпторы такие профили вытесывали у своих богинь, говорю о хороших богинях, бывали, кажется, и скверные, для тех Адель моделью бы не послужила.
Хорошо помню, как мы вдруг поняли, что ничего не выйдет из нашей попытки совершить научную революцию. Я сказал "вдруг", потому что ни разу до того мы не задумывались, сколь безмерно малы наши средства по сравнению с целью. Было чудовищное несоответствие между теорией происхождения Вселенной и попыткой применить эту теорию для конструирования нового генератора энергии. Мы так были увлечены своими мечтами — самый точный термин, — что это несоответствие и отдаленно до нас не доходило. А в тот день дошло.
Адель бросила вычислять и с досадой объявила:
— Ничего не получится, пока мы не раскроем главную загадку: почему вообще возникло пространство? И как можно влиять на его образование? У Прохазки об этом ни слова, и у нас не больше.
Кондрат тоже понял, что от космологических теорий непросто перейти к технологическим делам, но не мог отречься от своей идеи.
— Кое-какие результаты все же получены. Мы теперь знаем, какую энергию можно получить от того, что пространство новообразуется. И не в масштабах Вселенной, а в ядерных превращениях внутри лабораторного механизма.
Эдуард — он был далеко не такой вычислитель, как Адель, и ему всех раньше надоели бесперспективные расчеты — безжалостно опроверг Кондрата:
— Помнишь пословицу: "Ежели бы да кабы да во рту бы росли бобы, то был бы не рот, а огород"? Точная формула нашего исследования. Кабы скорость образования пространства увеличилась вдвое, то прирост энергии был бы такой-то, а ежели втрое, то другой. Если это называется результатом, то что называть переливанием из пустого в порожнее? Дорогой Кондрат, предлагаю прервать нашу работу. Лето слишком хорошее время, чтобы так бездарно его терять. Завтра отправляюсь в горы. На семитысячники я поднимался, а восьмитысячники не покорял. Считаю это серьезным просчетом.
Мы отложили работу до осени. Адель улетела в Ольштын к родным, Эдуард двинулся в Гималаи, я провел отпуск на Тихом океане. В то лето мне представлялось, что наши совместные изыскания постигла окончательная неудача. Я встретился с Кондратом, и он подтвердил, что потерял надежду на успех. Встреча произошла в Туруханске, многомиллионном городе на Енисее. Нашу ракету, летевшую с тропических островов Тихого океана, задержали в Туруханске по навигационным причинам, и я воспользовался этим, чтобы познакомиться с городом. Уже давно не строят таких исполинов, как Туруханск, он да новый Бийск, оба возведенные в XXI веке, — последние гиганты Сибири. Разрастанию заштатного городка Туруханска способствовало, что он стал административным центром Великой Северной магистрали, связавшей север Норвегии с Камчаткой, а когда железные дороги потеряли свое прежнее значение, еще больший импульс развитию города дало открытие в приенисейских краях уникальных рудных богатств.
Туруханск меня не восхитил. Город как город — небоскребы, широкие проспекты, экзотические парки, вечерние гулянья на Енисее… Только золотые лиственницы, впадавшие в осеннюю дрему, да показанное ночью местным Управлением Земной Оси красочное полярное сияние впечатляли: ни такого густого золота деревьев, ни такой неистовой светопляски в небе в других городах не встретишь.
В ресторане я увидел Кондрата. Собственно, не я его, а он меня. Я сидел за столом, он подошел, сел, кивнул, ткнул вилкой в закуску, прожевал и хмуро выговорил:
— Здравствуй, Мартын. Ты что здесь делаешь?
— То же, что и ты — ужинаю, — ответил я.
— Ты же на Тихом океане.
— Был.
— Сейчас в Туруханске?
— Сейчас в Туруханске. Тебе не откажешь в наблюдательности.
— Перестань ерничать! Что за привычка надо всем издеваться?
— Иронизировать, а не издеваться, — поправил я. — И не надо всем. Ты преувеличиваешь.
— Я здесь живу, — сообщил он.
— В Туруханске? Влечет к большим городам? Не ожидал.
— Не влечет, нет. Я здесь учился. А родной дом — на Курейке. Слыхал, наверно? Речка небольшая, около тысячи километров, но красота! Мартын, поедем со мной! Еще две недели до учения. Метеорологи обещают у нас небывалую осень — теплынь, тишина. Будем грибы собирать, удить рыбу. Ты знаешь, какая рыба? Нельма, муксун, хариус, попадается и осетр. От одних названий во рту слюна! Не пожалеешь!
Я еще не слышал от Кондрата столь зажигательной речи. Даже когда он излагал свои космогонические идеи, у него так не светились глаза.
— Мы ведь хотели собраться пораньше, чтобы поработать еще над идеей, — напомнил я.
Он вмиг потускнел. У него была своеобразная внешность — черные лохмы прикрывали две трети могучего лба, скуластые щеки, выдвинутые вперед двумя подушками, почти поглощали собой незначительный нос, широкий рот окаймляли слишком тонкие губы, а подбородок вообще не годился для такого массивного лица — слишком маленький, к тому же и округлый. Тонкие чувства — нежность, ласку, тихое удовольствие, вежливое неодобрение — таким невыразительным лицом не изобразить. Да он и не старался их изображать, они были ему не по душе. Уже при первой встрече с Кондратом меня поразили его глаза. Они легко вспыхивали и погасали, то расширялись так, что становились огромными, то суживались до щелок. Ярко-голубые на темнокожем лице от предков эвенков — и таких прародителей Кондрат отыскал в своей родословной, — в минуты крайних чувств его глаза вдруг меняли свой цвет. Это звучит фантастично, но в воспоминании я вижу со всем ощущением реальности несхоже разных Кондратов — безмятежно голубоглазого и почти черноглазого. И все это его родные краски, не моя придумка.