Рэй Брэдбери - Миры Рэя Брэдбери. Том 4
Я стоял будто оглушенный. Наконец отвернулся от обращенных вверх вопрошающих лиц и глянул на дверь. Мамы не было. Она уже спустилась на первый этаж. Я услышал, как ребята, заметно притихнув, направились к монорельсовой.
Я не стал пользоваться вакуум-лифтом, а медленно пошел вниз по лестнице.
— Джен, — сказал я, — где Ральф?
Джен сделала вид, будто поглощена расчесыванием своих длинных русых волос виброгребенкой.
— Я его услала. Мне нужно было, чтобы он ушел.
— Почему я не пошел в школу, Джен?
— Пожалуйста, Крис, не спрашивай.
Прежде чем я успел сказать что-нибудь еще, я услышал в воздухе какой-то звук. Он пронизал достаточно плотные стены нашего дома и вошел в мою плоть, стремительный и тонкий, как стрела из искрящейся музыки.
Я глотнул. Все мои страхи, колебания, сомнения мгновенно исчезли.
Как только я услышал этот звук, я подумал о Ральфе Прайори. Эх, Ральф, если бы ты мог сейчас быть здесь. Я не верил сам себе. Слушал этот звук, слушал не только ушами, а всем телом, всей душой, и не верил.
Ближе, ближе… Ох, как я боялся, что он начнет удаляться. Но он не удалился. Понизив тон, он стал снижаться возле дома, разбрасывая свет и тени огромными вращающимися лепестками, и я знал, что это вертолет небесного цвета. Гудение прекратилось, и в наступившей тишине мама подалась вперед, выпустила из рук виброгребенку и глубоко вздохнула.
В наступившей тишине я услышал шаги на крыльце. Шаги, которых я так долго ждал.
Шаги, которых боялся никогда не услышать.
Кто-то нажал звонок.
Я знал кто.
И упорно думал об одном: «Ральф, ну почему тебе непременно надо было уйти теперь, когда это происходит? Почему, черт возьми?»
Глядя на пилота, можно было подумать, что он родился в своей форме. Она сидела на нем как влитая, как вторая кожа — серебристая кожа: тут голубая полоска, там голубой кружок. Строгая и безупречная, как и надлежит быть форме, и в то же время — олицетворение космической мощи.
Его звали Трент. Он говорил уверенно, с непринужденной гладкостью, без обиняков.
Я стоял молча, а мама сидела в углу с видом растерянной девочки. Я стоял и слушал.
Из всего, что было сказано, мне запомнились лишь какие-то обрывки.
— …отличные отметки, высокий коэффициент умственного развития. Восприятие А-1, любознательность AAA. Необходимая увлеченность, чтобы настойчиво и терпеливо заниматься восемь долгих лет…
— Да, сэр.
— …разговаривали с вашими преподавателями семантики и психологии…
— Да, сэр.
— …и не забудьте, мистер Кристофер…
Мистер Кристофер!
— …и не забудьте, мистер Кристофер, никто не должен знать про то, что вы отобраны Комитетом космонавтики.
— Никто?
— Ваша мать и преподаватели, конечно, знают об этом. Но, кроме них, никто не должен знать. Вы меня хорошо поняли?
— Да, сэр.
Трент сдержанно улыбнулся, упершись в бока своими ручищами.
— Вам хочется спросить — почему, так? Почему нельзя поделиться со своими друзьями? Я объясню. Это своего рода психологическая защита. Каждый год мы из миллиардного населения Земли отбираем около десятка тысяч молодых людей. Из них три тысячи через восемь лет выходят из училища космонавтами, с той или другой специальностью. Остальным приходится возвращаться домой. Они отсеялись, но окружающим-то незачем об этом знать. Обычно отсев происходит уже в первом полугодии. Не очень приятно вернуться домой, встретить друзей и доложить им, что самая замечательная работа в мире оказалась вам не по зубам. Вот мы и делаем все так, чтобы возвращение проходило безболезненно. Есть и еще одна причина. Тоже психологическая. Мальчишкам так важно быть заправилами, в чем-то превосходить своих товарищей. Строго-настрого запрещая вам рассказывать друзьям, что вы отобраны, мы лишаем вас половины удовольствия. И таким способом проверяем, что для вас главное: мелкое честолюбие или сам космос. Если вы думаете только о том, чтобы выделиться, — скатертью дорога. Если космос ваше призвание, если он для вас всё — добро пожаловать.
Он кивнул маме:
— Благодарю вас, миссис Кристофер.
— Сэр, — сказал я. — Один вопрос. У меня есть друг. Ральф Прайори. Он живет в интернате…
Трент кивнул:
— Я, естественно, не могу вам сказать его данные, но он у нас на учете. Это ваш лучший друг? И вы, конечно, хотите, чтобы он был с вами. Я проверю его дело. Воспитывается в интернате, говорите? Это не очень хорошо. Но… мы посмотрим.
— Если можно, прошу вас. Спасибо.
— Явитесь ко мне на Космодром в субботу, в пять часов, мистер Кристофер. До тех пор — никому ни слова.
Он козырнул. И ушел. И взмыл в небо на своем вертолете, и в ту же секунду мама очутилась возле меня.
— О, Крис, Крис… — твердила она, и мы прильнули друг к другу, и шептали что-то, и говорили что-то, и мама говорила, как это важно для нас, особенно для меня, как замечательно, и какая это честь, вроде как в старину, когда человек постился, и давал обет молчания, и ни с кем не разговаривал, только молился и старался стать достойным, и уходил в какой-нибудь монастырь, где-нибудь в глуши, а потом возвращался к людям, и служил образцом, и учил людей добру. Так и теперь, говорила она, заключала она, утверждала она, это тоже своего рода высокий орден, и я стану как бы его частицей, больше не буду принадлежать ей, а буду принадлежать Вселенной, стану всем тем, чем отец мечтал стать, да не смог, не дожил…
— Конечно, конечно, — пробормотал я. — Я постараюсь, честное слово, постараюсь… — Я запнулся. — Джен, а как же… как мы скажем Ральфу? Как нам быть с ним?
— Ты уезжаешь, и все, Крис. Так ему и скажи. Коротко и ясно. Больше ничего ему не говори. Он поймет.
— Но, Джен, ты…
Она ласково улыбнулась:
— Да, Крис, мне будет одиноко. Но ведь у меня остается моя работа и остается Ральф.
— Ты хочешь сказать…
— Я заберу его из интерната. Он будет жить здесь, когда ты уедешь. Ведь именно это ты желал от меня услышать, Крис, верно?
Я кивнул, внутри у меня все будто онемело.
— Да, я как раз это хотел услышать.
— Он будет хорошим сыном, Крис. Почти таким же хорошим, как ты.
— Отличным!
Мы сказали Ральфу Прайори. Сказали, что я, очевидно, уеду учиться в Европу на год и мама хочет, чтобы он поселился у нас, был ей сыном, пока я не вернусь домой. Мы выпалили все это так, будто слова обжигали нам язык. Когда же мы кончили, Ральф сперва пожал мне руку, потом поцеловал маму в щеку и сказал:
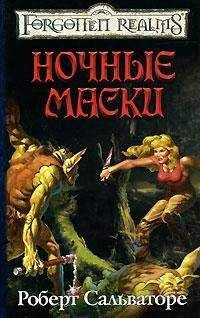
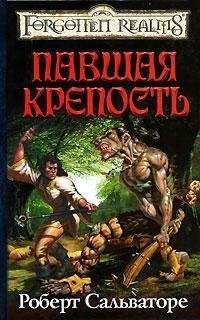
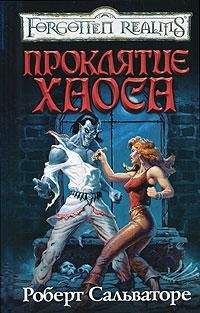
![Роберт Сальваторе - В тени лесов [Серебристые тени]](/uploads/posts/books/57206/57206.jpg)
