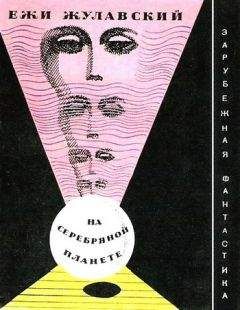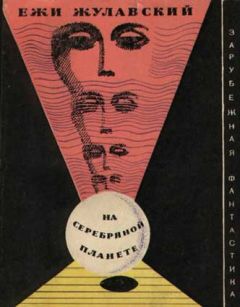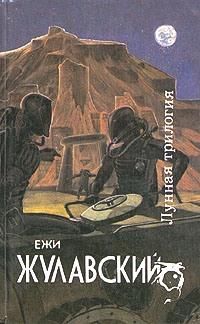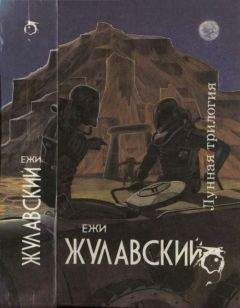Ежи Жулавский - На серебряной планете (Рукопись с Луны)
Но после смерти Тома дела приняли гораздо худший оборот. Мне кажется, что сейчас я для этого народца нечто куда большее, чем чародей. Они полагают, что я все знаю и все могу, а если не всегда делаю то, о чем они просят, так потому лишь, что не хочу. Ведь просили же они меня, чтобы я отвел идущие с юга ураганы, и говорили, что Аде это, к сожалению, не удается, хоть она действует от моего имени. И она послала их ко мне — ибо я все могу!
А еще как-то раз Ян допытывался у меня под большим секретом, когда я намереваюсь покинуть их и вернуться на Землю. Ада пророчит им, что это, несомненно, произойдет, а они страшатся моего ухода!
Я, конечно, смотрю с глубокой и мучительной скорбью на то, что творится в умах у этого поколения. Ничем я тут не могу помочь, а может, просто не хочется мне уже бороться против наивного невежества… Все меня мучает, все меня угнетает. Радуюсь, когда могу хоть на минуту забыть, где я и что вокруг происходит, и, закрыв глаза, наяву видеть сны о Земле.
Там люди, настоящие люди, такие леса, такие птицы, такие ароматные цветы на лугах!..
Да, там…
И только все больше хочется мне навсегда уйти отсюда! Если бы я мог, как они уверовали, вернуться на Землю! Я помешан на этих мыслях о Земле. Чем ни займусь, а мысли эти снова и снова приходят на ум и по ночам не дают мне покоя. Стоит только уснуть, как всплывают перед глазами всякие фантастические картины, но все они — лишь вариации одного мотива: Земля! Земля! Земля!
Давным-давно, когда я еще жил там, слово «Земля» означало для меня разные континенты, разные страны, государства, народы — сейчас все это слилось в единую мысль, в единую любовь и тоску. Я не могу уже различить на таком расстоянии во времени и в пространстве ни государств, ни народов, отличающихся по языку и по религии, и даже человечество сливается в душе моей в нераздельное единство с животными, растениями и всей громадой планеты, и так это все сияет и сверкает в моих мыслях, как там, в черном небе над пустынями.
Земля! Земля!
* * *Вспомнился мне сегодня Том — в те счастливые времена, когда он, еще ребенок, был моим постоянным спутником и другом. Я долго думал о нем — и сейчас, в тихой и морозной ночи, мелькают пред моим взором отшельника красочные картины его детских лет…
Как-никак, это был единственный человек из лунного племени, которого я действительно любил. И так необычайно занимало меня все, что касалось его.
Он развивался поразительно быстро — по-видимому, под влиянием особых условий здешнего мира. В четырнадцать лет он был уже взрослым, зрелым мужчиной. Подрастали и две старшие девочки. Я смотрел на них, как на расцветающие цветы, которые еще не сознают своего очарования, но уже благоухают и, может быть, инстинктивно предчувствуют, что они привлекательны и что свершается в них некое таинство, растет непостижимая сила, делающая их драгоценными, желанными и священными.
Их отношение к Тому заметно переменилось. Раньше это были две служанки, два маленьких мотылька, которые непрерывно вьются вокруг своего светловолосого повелителя и только ищут возможности понравиться ему или в чем-нибудь пригодиться. Том сознавал свое огромное превосходство над сестрами и считал его вполне естественным. Он даже пренебрежительно относился к девочкам.
Если изредка, в приливе нежности, он гладил одну из сестер по пышным, мягким волосам или даже целовал, то делал это всегда с видом доброго властелина, который желает вознаградить преданность своих слуг, но печется о том, чтобы их не разбаловать слишком частыми проявлениями своей монаршей милости Это его отношение к девочкам всегда огорчало меня, и я не раз выговаривал Тому, видя, как он беспощадно командует сестрами, а взамен только и позволяет — любить себя. Я не предвидел, что все это совершенно изменится — по крайней мере на некоторое время.
В ту пору, о которой идет речь, девочки стали сдержанней проявлять любовь к брату и даже, как мне показалось, начали его избегать. Иногда лишь украдкой они бросали вслед ему пугливые беглые взгляды и краснели всякий раз, как он к ним подходил. Чем больше они отдалялись от Тома, тем нежнее и ласковее становились друг с другом.
Перемена эта совершилась быстро и как-то так неприметно, что, обнаружив ее, я уже не смог уяснить, когда все это случилось. Я одно лишь понимал, глядя на этих троих детей, если судить по-земному, что у меня на глазах произошел полнейший переворот, совершенный природой, которая стремится творить, — даже если впоследствии она выместит свой гнев на орудиях и созданиях великой своей воли.
Это уже не были брат и сестры; это были две женщины и мужчина…
Сами они, ясное дело, не понимали этого. Том старался обращаться с сестрами по-прежнему, но это ему давалось с трудом. В их обществе он терял уверенность в себе, конфузился. Видно было, что теперь эти смирные хрупкие девочки в чем-то имели перевес над ним, будущим владыкой лунного мира. Он теперь не командовал ими, а скорее им прислуживал. Приносил им пищу, заботился об их одежде, об удобствах и развлечениях, собирал для них красивые пестрые раковинки и кусочки янтаря, которые они вплетали в косы, или катал их в хорошую погоду на лодке. В этих прогулках обычно участвовал и я. Странное дело! Девочки, выросшие вместе с Томом и проводившие с ним ранее все дни напролет, теперь не хотели оставаться с ним наедине. Порой я, как более сильный и опытный, предлагал сменить Тома на веслах, но Том не соглашался. Я заметил, что он не столько меня оберегает, сколько хочет щегольнуть перед девочками своей силой и ловкостью.
Извечная комедия разыгрывалась у меня на глазах, но я с радостью наблюдал ее. Мне казалось, что передо мной трое птенцов, моя ладонь лежит на их бьющихся сердцах, и я знаю, как бьются сердца, и понимаю даже то, чего они сами еще не понимают. Со времени смерти Марты это была едва ли не единственная пора в моей жизни, когда я чувствовал себя почти счастливым… Чем-то свежим, весенним веяло на меня от этих детей, в которых совершалось великое таинство жизни и любви…
Сегодня и это — уже воспоминания далекого прошлого!
Я с умилением вызываю их в памяти — ведь так мало знал я на этой планете дней, о которых мог бы вспоминать с удовольствием и без душевной боли.
Но — снова эта ужасная ирония жизни! Любовь Тома к Лили и Розе — он любил их обеих, — любовь, от одного вида которой блаженно таяло мое сердце, породила то карликовое поколение, что теперь понемногу заселяет окрестности Теплых Прудов.
Каждый раз, как мне приходит это на ум, я содрогаюсь, будто вдруг обнаружил в корзине роз отвратительно извивающихся червей.