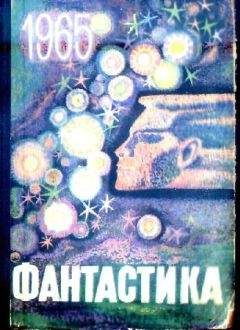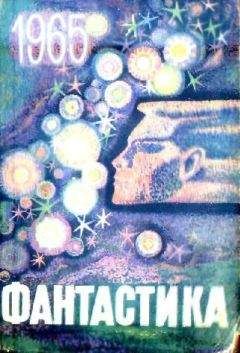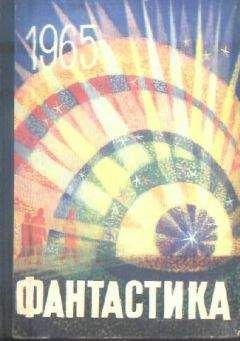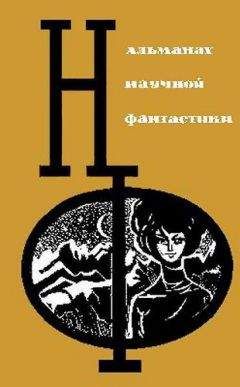Сборник - Фантастика, 1965 год Выпуск 2
– Дайте сваю руку, Альберт. Вот так. Сожмите мою. Крепче, еще крепче. Разве она не слушается вас? Осторожно, Альберт, вы раздробите мне кисть. А теперь сомневайтесь в свое удовольствие, сколько вам угодно.
Надо уйти, надо уйти немедленно, твердила себе Ягич.
Надо бежать, а не то всему конец. Я не могу, профессор, вы слышите, профессор, я не могу смотреть ему в глаза!
– Откуда же эта информация, доктор? Разве мои руки могут помнить то, чему никогда не учились? Я слушал эти этюды только в концерте, да и то запомнил лишь, что их было двадцать, четыре, а теперь они сидят у меня вот здесь, - Альберт потряс руками, - вот здесь, доктор. Вы бросаете вызов рассудку, вы хотите, чтобы я уверовал в информацию извне, которая предшествует опыту и познанию.
– Альберт, но разве мы всё знаем об источниках информации? Ученые прошлого века рассказывают об одном шотландце, который вдруг заговорил по-арабски, хотя достоверно было известно, что никогда до этого он не слышал арабской речи.
– Достоверно ли - вот вопрос, - задумчиво произнес Альберт.
– И я спрашиваю: а у вас все достоверно?
Альберт молчал. Повернувшись на правый бок, oн смотрел на Ягич в упор, и глаза его цвета сумеречного моря темнели быстро, как июльское море к ночи.
– Кора, вы можете сесть поближе? Нет, еще ближе. Да, так. А теперь наклонитесь. Еще чуть-чуть.
Он взял ее лицо в руки, его пальцы скользили, как пальцы слепого, вылепливающие лицо женщины, которая еще мгновение назад существовала только в звуках своего голоса.
Они дрожали, они отчаянно дрожали, его пальцы, и ои не мог унять их дрожи.
– Кора, - сказал он, - это не мои пальцы. Они хотят другого, они дрожат потому, что я не разрешаю им другого. Эта дрожь их - бунт против меня. Они бешеные псы, перегрызающие цепь.
– Но цепь перегрызть нельзя, Альберт.
– Нельзя, - повторил он шепотом. - Наверное, нельзя.
Внезапно руки его перестали дрожать. Она заметила это сразу, еще до того, как пальцы его сплелись у нее на затылке и губы, сухие, шершавьте, горячие, заскользили у правого виска, к глазу.
– Это я, Кора, - сказал он, - теперь, доктор мой, я, - успел он сказать еще, и руки его, судорожно сжавшись у нее на затылке, стремительно, как два жестких стержня с одинаковыми зарядами, разлетелись в стороны.
Движения их были беспорядочны и бессмысленны, но самым тягостным была их жесткость, точно живое человеческое тело нанизали на стальной прут.
– Успокойтесь, Альберт, - приговаривала Ягач, - сейчас все пройдет. Сейчас, одна минута - я включу стабилизатор, и все пройдет.
Стабилизатор был уже готов, когда за ее спиной веожиранио заговорил видеотелефон:
– Альберт, расслабиться! Не надо стабилизатора. Расслабляйся, еще расслабляйся, еще.
На экране чернели мучительно тяжелые глаза Валка. Глаза эти давили огромной тяжестью валунов, непонятно почему задержавшихся в небе, непонятно почему не падающих на землю. Но руки Альберта понемногу успокаивались, и, по мере того как движения их становились упорядоченнее и эластичнее, тяжесть истекала из глаз Валка, растворяясь где-то за экраном быстро и бесшумно, как водород из продырявленного зонда.
Через час, когда солнца уже не было, когда посинели гусиной синевой только что еще заревые облака, Альберт уснул.
Она сидела рядом. Она смотрела на желтое лицо человека, изнуренного мучительной борьбой, на шершавые, сухие и горячие его губы, на истончившийся нос, но все это было лишь фоном для того главного, что пронизывало, пропитывало ее всю, что было сейчас ее единственным и истинным “я”: вот лежит первый человек с чужими руками, первый, которому чужие руки стали своими.
Утром, за час до назначенного Альберту пробуждения, она сняла чехлы у него с рук. Валк готов был удалить их еще вчера, когда догадка Альберта стала уже, в сущности, уверенностью, и не только бессмысленно, но и вредно было хранить в тайне то, что перестало быть тайной. Ягич, однако, решительно воспротивилась этому, и Валк согласился в конце концов, что утро более подходящее время. Он даже вспомнил, что утро вечера мудренее, и подивился исключительной физиологической точности этой пословицы.
Едва проснувшись, Альберт увидел руки, которые лежали поверх белой простыни. В первое мгновение в глазах его не было ничего, кроме заурядного равнодушия - равнодушия к чужому предмету, случайно попавшемуся на глаза. Но тут же с непостижимой быстротой в них индуцировалась чудовищная энергия внезапно озаренного сознания: эти руки - его руки.
Сухие, с далеко выдвинутой в локте костью и длинными, тонкими, как деревянные бруски из детского “Конструктора”, пальцами, они были чужды мускулистому, с четким, упругим рисунком телу Альберта: это были руки Дон-Кихота, прилепленные к торсу Геракла. Но еще фантастичнее был их цвет - подсиненных свинцовых белил, сплошь зарешеченных тончайшими черными волосами. Даже теперь, при свете утреннего солнца, они были из мира полярных снегов и голубого полярного месяца.
Сначала Альберт молча перевел взгляд на свою грудь, загорелую, с золотистыми курчавыми волосами, под которыми ближе к краям глянцевито краснели три рубца, потом на руки, потом опять на грудь и закрыл глаза. Ягич наблюдала за ним безотрывно, нисколько не скрывая этого, но спокойно, с той профессиональной уверенностью, которая даже необычным ситуациям придает оттенок заурядной будничности.
– Чьи это руки? - прошептал Альберт, и, так как ему показалось, что она не услышала его шепота, он повторил громко, как на допросе: - Чьи это руки?
– Ваши, Альберт. А раньше - Сергея Чудновского.
– Пианиста?
– Да, пианиста.
– Ему было семьдесят два?
– Да, Альберт, семьдесят два.
– Доктор, сколько же мне? - Он ждал, но она не отвечала, и тогда он заговорил снова: - Допустим, доктор, вы выходите за меня замуж: кто будет обнимать вас, Альберт Валк, физик, двадцати девяти лет, или Сергей Чудновский, пианист, семидесяти двух лет? Хотя нет, давайте проще - сколько лет человеку, руки которого на три года старше его отца?
– Не надо, Альберт, - она взяла его руки, положила кисть на кисть и сжала крепко, как озябшие руки ребенка, - это твои руки, понимаешь, твои.
Глаза Альберта были по-прежнему закрыты. У правого, на полпути к виску, застряла слеза. Ягич высвободила руку, чтобы отереть ее, но Альберт стремительно повернул голову и прошелся щекой по подушке.
Она засмеялась: - Мальчик, мальчик, а сколько тебе лет?
– Ему? - Валк стоял в дверях, чересчур большой и чересчур бодрый. - Это вы у меня, доктор, спросите, сколько ему лет.
Усевшись на койку, Валк взял руки Альберта и, приказав сопротивляться, согнул их в локте и запястье. Затем, перебирая пальцы, снова приказал сопротивляться - сильнее, сильнее, еще сильнее! - и, наконец, хлопнув его но няечу, сказал громко и весело, как детский доктор мальчику, тяжело переболевшему: