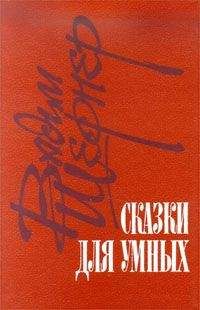Вадим Шефнер - Имя для птицы, или Чаепитие на желтой веранде
Вообще-то пишу я, как положено, за письменным столом. Мой стол ровен и гол, как взлетная площадка, на нем лежит только тот лист бумаги, по которому я вожу авторучкой в данную минуту. Где стоит стол, где нахожусь я -- мне совершенно безразлично, было бы только тихо кругом. Особенно хороша для работы унифицированная, обезличенная обстановка гостиниц и домов творчества. И стихи, и прозу я пишу по вечерам и по ночам, -- я прирожденная "сова". Здоровью моему ночная работа не вредит -- в этом я убедился. Но делу, несомненно, вредит, потому что сужает, так сказать, поле трудовой деятельности. Я завидую "жаворонкам", но знаю, что дневной птицей мне уже никогда не стать.
Да, я пишу за письменным столом. Но отправная точка почти каждого стихотворения лежит вне стола и вне дома. Стихи приходят ко мне извне, с улицы. Мне, как, вероятно, и некоторым другим людям, пишущим стихи, поэзия представляется искусством пешеходным. Первая строчка зарождается обычно из ритма шагов и какого-нибудь уличного наблюдения, сбивчивого размышления, случайного впечатления, неожиданного воспоминания. В то же время очень часто эта первая строчка к увиденному, вспомнившемуся, впечатлившему прямого смыслового отношения не имеет.
Самое странное, что, когда строчки приходят в голову по какому-то вполне конкретному поводу, они, эти строчки, оказываются лежащими вне настоящей поэзии. Вот, к примеру, я вижу рекламу цирка, где изображен медведь. Возникает такое двустишие:
Медведь лежит в берлоге,
Подводит он итоги.
Или, бродя по набережной Малой Невки, вижу киносъемки. Красивая девушка в длинном платье стоит возле какого-то старинного экипажа; на нее направлены юпитеры, она открывает и закрывает рот, вид у нее вдохновенный, но пения не слышно, ибо озвучат ее потом. У меня сразу складываются строки:
Девица разевает рот -
Певица за нее споет.
Все это, конечно, не стихи, а некие замкнутые в себе стихоподобия. Стихами становятся именно те, повторяю, строки, которые приходят на ум вне прямой связи с окружающим. Они приплывают по каким-то непонятным, тайным ассоциативным каналам. К такой "случайной" строчке, как железки к магниту, начинают подскакивать -- тоже неизвестно откуда -- другие строчки. Получается двустишие или четверостишие, которое я стараюсь не позабыть, стараюсь в целости донести до своего письменного стола. Хотя я всегда таскаю с собой в кармане записную книжку, но записывать в нее строки при посторонних, на улице, как-то неловко, стыдновато. Поэтому-то я и несу их в голове, и, поскольку мое внимание к окружающем ослабевает, в такие минуты для меня увеличиваются шансы стать жертвой уличного движения.
Дома я сразу же записываю то, что мне преподнесла улица, и или сажусь за начатое стихотворение, или откладываю на потом. Часто это "потом" так и не настает. А иногда оно настает очень нескоро -- через месяц, через год или даже через годы. Но есть у меня и стихи, которые я целиком выходил, а затем записал почти начисто. Однако это не лучшие мои работы: стихи любят, чтоб над ними потрудились за столом. И чем больше вложишь в них чернового труда, тем естественнее и первозданнее кажутся они.
Случается и так, что первая строчка, с которой все началось, на которую "накрутилось" все стихотворение, выпадает из стихов в процессе работы над ними. Строчка умирает, как библейское зерно, давшее всходы: умирает, рождая.
Должно быть, именно потому, что улица помогает мне в работе, я люблю бродить по городу, а больше всего -- по Васильевскому острову; самые лучшие мысли приходят мне именно там. Уже больше двадцати лет прошло с того дня, когда я перекочевал на Петроградскую сторону, но по-прежнему все свои пространственные и временные отсчеты подсознательно веду от Васильевского; он для меня, как в детстве и как в юности, -- пуп земли и центр мироздания.
А вот стихов о Васином острове у меня почти что и нет, -- те же немногие, что посвящены ему, не слишком-то удачны. Быть может, поэзии противопоказано слишком отчетливое видение того, о чем пишешь?
36. ПРЕДМЕТЫ ВТОРОСТЕПЕННЫЕ
К осени 1924 года мать определила меня в 215-ю трудовую школу, что помещалась на углу Тринадцатой линии и Большого проспекта в здании бывшего Елизаветинского института благородных девиц. Были школы, расположенные ближе к нашему дому, но в старших классах 215-й учились в то время мои двоюродные сестра и брат, и учились хорошо; мать надеялась, что их пример подействует на меня вдохновляюще и что моя совесть не позволит мне быть последним учеником в той школе, где они одни из первых по успеваемости. Увы, совесть моя, по выражению бабушки, была гуттаперчевая, растяжимая (безразмерная, как сказали бы сейчас), и учился я без должного тщания. Правда, вскоре я, как-то незаметно для самого себя, стал писать грамотно, и учительница родного языка даже начала ставить меня в пример другим, но произошел этот сдвиг не из-за освоения правил грамматики (я и до сих пор слаб в них), а благодаря обильному приватному чтению.
Обладая недурной памятью, я невольно понахватал из книг много всяких поверхностных сведений и потому хорошо отвечал на тесты. Тесты с самыми разнообразными, но тоже довольно поверхностными вопросами давались тогда в школе весьма часто; ученики заполняли их в классе, а школьные учителя и представители из РОНО засекали время -- кто быстрее заполнит. Я отвечал быстро и оставлял мало пробелов. Однажды меня вызвали в учительскую и стали не то расспрашивать, не то допрашивать, не разузнал ли я где-нибудь заранее все вопросы и ответы; очень уж скоропалительно и удачно я отвечаю, что никак не соответствует моим скудным учебным успехам. Знать загодя содержание печатных тестов я, разумеется, не мог, но строгая тетенька-педолог из РОНО осталась, кажется, при убеждении, что я мошенничаю.
Кроме этой тестомании была одно время и анкетомания; нам частенько стали давать анкеты для заполнения их дома; анкетки для нас составлялись небольшие, упрощенные, детские. В одной, между прочим, спрашивалось: "Сколько лет твоей матери?" Я почему-то над этим вопросом никогда не задумывался, и теперь спросил:
-- Мама, а сколько тебе лет?
-- Уже двадцать годочков миновало! -- ответила она.
Я так и написал, что матери двадцать лет. Все люди старше шестнадцати-восемнадцати казались мне тогда людьми солидного возраста, и я не сообразил, что горожу нелепицу. На следующий день все, кто заполнил анкетки, сдали их учительнице; та бегло просмотрела их и начала урок родного языка. Когда послышался звонок на перемену, она велела мне подойти к ее столу и ткнула вставочкой в мою анкетку, в ту графу, где был мой ответ о возрасте матери, и строго спросила, зачем я шутки шучу -- ведь анкету составляли серьезные люди. Однако когда из моего объяснения она поняла, что я сделал это без умысла, она заулыбалась и легонько постучала согнутым указательным пальцем по моему лбу, а затем по столу и отпустила с миром.