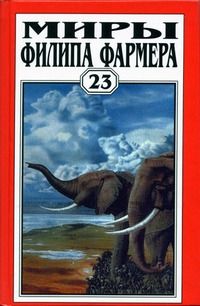Филип Фармер - Миры Филипа Фармера. Том 15. Рассказы
— Вам не кажется, что у вас несколько путаные метафоры? — спрашивает фидорепортер.
Лускус нежно берет Чиба за руку и отводит его в сторону, подальше от камеры.
— Чиб, дорогой мой, — воркующим голосом начинает он, — пора объясниться. Ты знаешь, как я тебя люблю, и не только как художника. Ты не можешь больше противостоять волнам глубокой взаимной симпатии, которые омывают нас обоих. Боже, если бы ты знал, как я мечтал о тебе, о моем восхитительном богоподобном Чибе...
— Если вы думаете, что я скажу «да» только потому, что в вашей воле создать или уничтожить мою репутацию, дать или не дать мне грант, то вы ошибаетесь, — говорит Чиб, вырывая руку.
Единственный глаз Лускуса сверлит его свирепым взглядом.
— Неужели я тебе противен? Ведь не из моральных же соображений...
— Дело в принципе, — отвечает Чиб. — Даже если бы я был в вас влюблен, чего на самом деле нет, я бы вам не отдался. Я хочу, чтобы меня ценили по моим делам, и только по ним. А если подумать, то мне наплевать, ценят меня или нет. Я не желаю выслушивать ни похвалы, ни ругань, ни от вас, ни от кого угодно. Смотрите, шакалы, на мои картины и обсуждайте их друг с другом. Только не надейтесь, что я соглашусь с вашими убогими мнениями.
ХОРОШИЙ КРИТИК — ЭТО МЕРТВЫЙ КРИТИК
Омар Руник сошел со своей эстрады и уже стоит перед картинами Чиба. Положив руку на обнаженную левую половину груди, где вытатуирован портрет Германа Мелвилла (почетное место на другой половине занимает Гомер), он принимается что-то громко выкрикивать. Его черные глаза похожи на дверцы топки, выбитые взрывом. Как случалось и раньше, при виде картин Чиба его охватывает вдохновение.
Зовите меня Ахав, а не Измаил, —
Это я загарпунил Левиафана.
Я, рожденный от человека вольный осленок.
Внимайте мне! Я все уже видел!
Душа моя — словно вино в заткнутом наглухо мехе.
Я как море с дверями, но двери никак не открыть.
Берегитесь! Мех вот-вот лопнет, и двери рассыплются в щепки.
«Ты Нимврод», — говорю я другу своему Чибу.
И вот настал час, когда Бог возвещает:
«Если так он способен начать,
То не будет предела мощи его.
Протрубив в свои громогласные трубы
Под стеной, ограждающей Небеса,
Он потребует в жены Луну, а в заложницы Деву
И еще свою долю в доходах
Вавилонской Великой Блудницы».
— Остановите этого сукина сына! — кричит распорядитель Фестиваля. — Он устроит здесь мятеж, как в прошлом году!
Полицейские подтягиваются ближе. Чиб наблюдает за Лускусом, который беседует с фидорепортером. Ему не слышно, что говорит Лускус, но он уверен, что это не комплименты в его адрес.
Мелвилл писал обо мне до того, как я появился на свет.
Я тот, кто хочет познать и осмыслить весь мир,
Но познать его так, как понравится мне самому.
Я Ахав, тот, кто силой своей сокрушит
Все преграды, что ставят Время, Пространство и Смерть,
И швырнет свой сияющий огненный факел Мирозданию в самое чрево,
Потревожив в собственном логове
То, что таится там, — сокровенную Вещь В Себе,
Далекую, равнодушную и неведомую.
Распорядитель делает знаки полицейским, чтобы те увели Руника. Рескинзон все еще что-то выкрикивает, хотя камеры направлены на Руника и Лускуса. Одну из Молодых Редисок — Хьюгу Уэллс-Эрб Хайнстербери, писательницу — научную фантастку, всю трясет — так действуют на нее голос Руника и жажда мести. Она подбирается к фидорепортеру из «Тайма». Это не журнал «Тайм», который давно уже исчез вместе со всеми остальными журналами, а информационное агентство, поддерживаемое правительством. «Руки прочь» — такова политика Дяди Сэма: он обеспечивает информационные агентства всем необходимым и в то же время позволяет их руководителям проводить свою собственную линию. Так соединяются государственная поддержка и свобода слова. И все прекрасно — по крайней мере теоретически.
«Тайм» возродил некоторые свои изначальные традиции. Например, что истину и объективность нужно всегда приносить в жертву остроумию, а научную фантастику — ставить на место. «Тайм» высмеял все до единого произведения Хайнстербери, и теперь она намерена лично посчитаться за обиды, причиненные несправедливыми критическими нападками.
«Quid nunc? Cui bono? [22]
Время? Пространство? Материя? Случайность?
Что будет, когда мы умрем — Преисподняя? Или Нирвана?
А если ничто — так о нем и нечего думать.
Пусть грохочут философии пушки —
Все равно их снаряды не рвутся.
Пусть взлетают на воздух теологии арсеналы —
Под них подложил заряд саботажник-Разум.
Зовите меня ефремлянином[23], ибо не смог
На переправе Господней я произнести
Шипящий звук, открывающий путь.
Да, не могу я сказать «шибболет»,
Зато я могу сказать: «А пошли вы все! »
Хьюга Уэллс-Эрб Хайнстербери лягает репортера из «Тайма» между ног. Тот вскидывает руки, выпускает фидокамеру, величиной и формой напоминающую футбольный мяч, и она падает на голову какого-то юноши. Это один из Молодых Редисок — Людвиг Эвтерп Мальцарт. Он зол на критиков, которые только что обругали его новую тональную поэму, и упавшая на голову камера — та последняя капля горючего, которой не хватало, чтобы его ярость разгорелась неудержимым пламенем. Он изо всех сил бьет главного музыкального критика в толстое брюхо.
Раздается крик боли, но это кричит не репортер их «Тайма», а Хьюга. Ее босая нога натолкнулась на жесткую пластиковую броню, которой защищает свои половые части репортер из «Таймса», не раз подвергавшийся подобным нападениям. Хьюга скачет на одной ноге, держа в руках ушибленную ступню, и налетает на какую-то девушку. Все валятся, как кегли, и кто-то падает на репортера из «Тайма», нагнувшегося, чтобы поднять камеру.