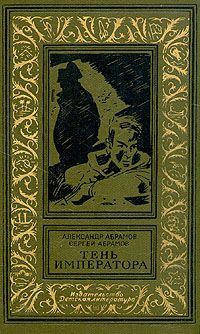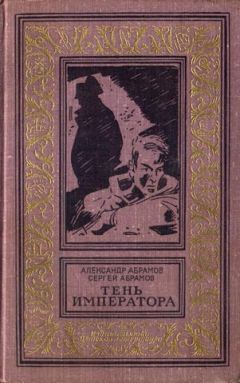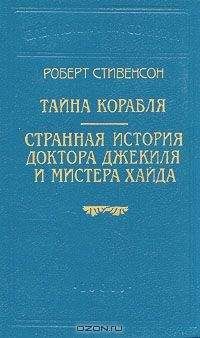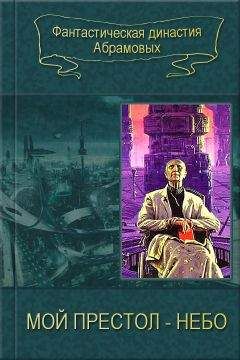Сергей Абрамов - Тень императора
— И собак?
Он промолчал, глядя на улицу, а его далекий мир вдруг показался мне чуточку обедненным. Ни пушистой Кляксы, ни разговорчивого попугая Мишки, ни барбоса Тимура у меня в том мире бы не было. Малость скучновато.
— Почему дома напротив стоят рядом, как стена? — вдруг спросил он.
— Улица, — сказал я.
— А за домами?
— Тоже улица.
— У нас дома в лесу… — проговорил он задумчиво. — Есть города, плавающие в океане. Есть летающие… Но улиц нет.
Он все еще смотрел в окно.
— Маленькие — это автомобили, а большие — автобусы? — спросил он, не оборачиваясь. — Я знаю о них. И движение одноярусное, — усмехнулся он.
— А у вас многоярусное?
— Мы отказались от него лет двести тому назад. Передвигаемся в каплях.
Я не понял.
— Их прозвали так из-за капельной формы. Впрочем, она меняется в зависимости от движения, горизонтального или вертикального. Их очень много. Они висят в воздухе в ожидании седоков. Правильно я говорю?
Теперь я улыбнулся снисходительно и тут же представил себе лес, полный цветных воздушных шаров. Красиво? Не знаю. Что-то вроде парка культуры или ярмарки в пригороде.
Он улыбнулся, видимо уловив мою мысль.
— Они прозрачны, почти невидимы, — пояснил он. — Подзываются и управляются мысленным приказанием. Гравитация, — прибавил он, обернувшись. — А у вас еще не освоили воздуха?
— Почему? — обиделся я за свой век. — У нас и самолеты есть и вертолеты.
— Самолеты… — о чем-то вспомнив, повторил он, — знаю. Они прилетают звеньями. По ночам. А как вы затемняетесь?
Я опять ничего не понял.
— Зачем?
— Освещенное окно может быть ориентиром для воздушных бомбардировщиков.
— Ты перепутал время, — засмеялся я. — Война окончилась двадцать лет назад.
Он побледнел, именно побледнел, как чем-то очень напуганный человек.
— Окончилась… — пробормотал он. — Значит, у вас послевоенный период?
— Именно.
Мне показалось, что он даже зашатался от горя. Оно было написано у него на лице, видимо не умевшем скрывать эмоций. Потом я услышал шепот:
— Ошибка в наводке… Я так боялся этого. Какие-нибудь пять-шесть танов — и катастрофа!
— Почему катастрофа? — удивился я. — Ты жив и можешь еще вернуться. Да разве так важны в этих масштабах какие-нибудь двадцать лет?
— Ты не знаешь, кто я. Я ресурректор.
Для меня это прозвучало столь же бессмысленно, как если бы он сказал: ретактор, ремиттер или релектор.
— Я воскрешаю образы прошлого. Звуковые совмещаются со зрительными. Разновидность историографии. — В его голосе звучало почти отчаяние. — Для этого мне и нужна была ваша последняя война.
— Разве последняя? — обрадовался я.
— К сожалению, последняя. Иначе не пришлось бы лезть в такую историческую глубь.
Он рассуждал явно эгоистически. Но мне было жаль его, перебравшего или недобравшего нескольких танов и напрасно проделавшего свой магеллановский пробег по истории.
Напрасно ли?
Мне пришла в голову одна идея.
— Не огорчайся, — сказал я утешительно, — ты увидишь войну. Ту самую. Полностью и сейчас. В трех остановках от нас идет двухсерийная кинохроника «Великая Отечественная война».
Теперь уже он спрашивал робко и уважительно:
— Что значит «в трех остановках»?
— Ну, на автобусе.
— А что такое двухсерийная?
— На три часа удовольствия.
— А кинохроника?
— Тоже воскрешение образов прошлого. И звуковые тоже совмещаются со зрительными.
Мой век брал реванш.
— Только костюмчик некондиционный, — сказал я, критически осматривая его «голливудское» одеяние. — Для маскарада разве.
— Что, что? — не понял он.
— Вот что, — уточнил я, доставая из шкафа свои старые сандалии и джинсы.
— Мы старались в точности воспроизвести вашу военную форму, — пояснил он, но, встретив мой смеющийся взгляд, понял, что «ресуррекция» не удалась.
Надо отдать ему справедливость: он не канителился. Свой нелепый костюм он стянул почти мгновенно, и тот буквально растаял у него между пальцами. Без костюма он выглядел загорелым штангистом-перворазрядником, облаченным в загадочную комбинацию из плавок и майки чересчур выразительных, на мой взгляд, тонов. Ее мы решили оставить: упрятанная до половины в джинсы, она превращалась в импортную вестсайдку вполне европейской расцветки. Обруч на голове, с которым он не захотел расстаться, прикрыли вышитой тюбетейкой.
Мой гость из будущего радовался от души, разглядывая себя в зеркале. Я радовался меньше: эмоции нашего века сдержаннее. Парень, однако, легко мог сойти за иностранца, побывавшего в магазине сувениров. Оставалось лишь узнать его имя. Произнесенное с каким-то немыслимым придыханием, гортанно, оно звучало, как Прэнс или Принс. Я поискал подходящее по созвучию и сказал:
— Ну, будешь Принцем. А я Олег. Пошли.
Первую трудность удалось преодолеть не без риска: он не умел переходить улицу. У них, оказывается, не бывает несчастных случаев: все движущееся обходит и пропускает пешеходов, а правил уличного движения совсем нет. У нас же его пришлось легонько переводить за руку, как слепого.
К счастью, в автобусе оказалось много свободных мест. Я пропустил его к окну и сел рядом. Он тут же прильнул к стеклу, чуть не выдавив его: они не знали стекол — повсюду стекло заменял уплотненный воздух, не пропускавший пыли и мягко пружинивший, когда вы с ним соприкасались. Не знали они и денег: мои два пятачка, опущенные в кассу у двери, вызвали у него усмешку. С такой же усмешкой оглядывал он и пассажиров на остановках, и обгонявшие нас автомобили.
— Какова максимальная скорость такой машины на открытой дороге? — вдруг спросил он.
— В час? — переспросил я. — Километров сто двадцать. Он засмеялся так громко, что впереди оглянулись. Я обиделся.
— А пятьсот лет назад ездили на дровнях и розвальнях, — процедил я сквозь зубы.
Он принял это как факт, не заметив моего раздражения, и дружелюбно продолжил:
— Мы говорим о скорости только в локальных поездках — на каплях. На спадах ее практически не ощущаешь — так она велика.
Я не успел спросить его о «спадах» — меня перебил парень, проходивший к выходу. Должно быть, он слышал наш разговор и тихо спросил:
— Вы о фантастике? Говорят, журнал такой будет. Не знаете когда?
— Не о фантастике, — сказал я так же тихо, — мы о действительности. Вот этот товарищ у окна прибыл к нам из будущего. Из двадцать четвертого века.
Парень ошалело посмотрел на меня, потом на Принца и рассердился:
— Я вас по правде спрашиваю, а вы разыгрываете. Дурачков ищешь.