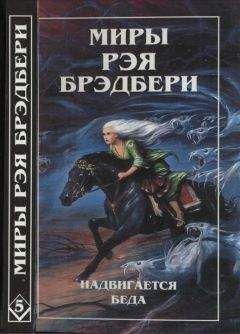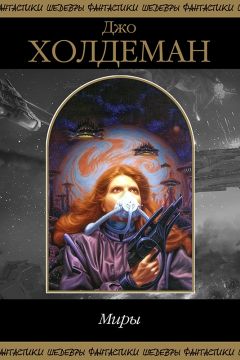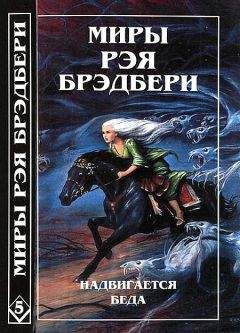Сергей Снегов - Диктатор
Зато «Трибуна» удивила. Самый раз было бешеному Фагусте напасть на всё правительство Гамова, такое близорукое, что допустило в свой круг платного агента врагов. А он вдруг углубился в философские размышления о том, что нет ничего по-настоящему святого в современном мире. Вдуматься в двойную измену — за океаном и у нас! Одна полностью опровергает другую — политически, идейно, морально и психологически! Какие антилогические следствия надо сделать из обнаруженного двойного предательства! Видный сенатор Кортезии, возможный претендент в президенты Леонард Бернулли изменяет своей стране в пользу Латании. Что ж, всё ясно: умный политик понял, что историческая справедливость на стороне Латании и нужно помочь победе этой страны, а не своей. А в Латании второй человек в правительстве изменяет Латании в пользу Кортезии. Тоже ясно: он увидел историческую справедливость в стане врагов, а не в собственной своей деятельности. Но сложите эти две ясности, и они погасят одна другую. И будет темно и необъяснимо там, где только что было светло. И станет понятно, что полностью непонятно, почему один изменяет своему символу веры ради противоположного, а другой — противоположному, и нет морального преимущества ни у одной из борющихся сторон.
Вот такую странную статью за своей подписью поместил в газете редактор «Трибуны».
Утром вошла Елена. На столике ещё стояла миска с похлёбкой, я отодвинул её и предложил Елене стул.
Она с отвращением вдохнула запах варева.
— И ты эту гадость ел?
— В тюрьме ресторана нет, Елена.
Она села спиной к столу. Гурманом она не была, но плохо приготовленную пищу не терпела. Её мутило от любой несвежей еды.
— Почему ты в тюрьме, Андрей?
Я вглядывался в неё. За один день она постарела лет на пять. И эту ночь, похоже, не спала. Покрасневшие глаза, припухшие веки — наверно, много плакала.
Не дождавшись ответа, она повторила:
— Почему ты в тюрьме, Андрей?
— Спроси об этом Гамова. Он приказал меня арестовать.
— Я спрашивала. «Ещё не время говорить о делах вашего мужа, они пока составляют государственную тайну», — так он ответил мне.
— Удовлетворись ответом Гамова.
— Не могу! Не хочу! Я должна знать, что случилось! Я твоя жена, я имею право знать, что с моим мужем.
Иногда на неё хорошо действовало, если я перемежал серьёзный разговор лёгкой шуткой. Я попытался использовать этот приём.
— По-моему, ты сама видишь, что со мной. Арестован, сижу в тюрьме, поел дурно пахнущее хлёбово. Скоро предстану перед судом. Мой друг Гонсалес постарается показать, как велика его приязнь ко мне…
Она отмахнулась от моих слов, как от надоедливой мухи.
— Андрей, я хочу знать: ты виновен? Скажи одно, только одно — виновен ты или невиновен?
— Об этом тебе скажет приговор Чёрного суда.
— Ненавижу Гонсалеса с его жестоким судом! Хочу слышать ответ от тебя, Андрей!
Я начал волноваться. Она могла бы говорить со мной по-иному. Мы прожили вместе не один год. И хоть неровно шла наша совместная жизнь, зато не было случая, чтобы мы что-то таили друг от друга. Я зло произнёс:
— Удивляюсь тебе, Елена! Ты знаешь меня как никто другой. Тебе этого мало? Ты требуешь, чтобы я открыл государственные тайны?
Она сжала виски. На висках пульсировали синие жилки.
— Не нужны мне ваши тайны! Виновен ты или невиновен? Этот вопрос стучит в моей голове! Пожалей меня, скажи правду!
— Правду о людях история говорит после их смерти. А при их жизни правду только чувствуют. Сердцем чувствуют, Елена!
— Ах, моё сердце ничего не открывает! Я так любила тебя, так гордилась тобой! Ты замечательный человек, ты выше меня, но так предан своей работе, своим успехам, что очень часто тебе вовсе не до меня. И я должна это терпеть — вот так мне говорило сердце, и я верила. А сейчас не знаю, чему верить, не знаю даже, кто ты на самом деле…
— Не знаешь, кто я на самом деле? Так я переменился?
— Не переменился, нет. Прости, у меня путаются мысли… Ты поднялся на такую высоту, второй человек в стране… И я видела — тебя мучает, что второй, ты раньше, на старой своей работе, всегда был первым. Кто-то значительней тебя, ты переживаешь, только сдерживаешься… Я так сочувствовала тебе, Андрей! А теперь эти страшные обвинения…
— Елена! Прекратим этот разговор.
— Не прекращу! Скажи мне правду! Что ты ненавидишь Гамова, я знала. Но неужели из-за соперничества с ним пошёл на предательство? Отвечай, это правда — твоя измена?
— Елена, снова прошу — прекрати!
— Отвечай! Да или нет? Почему не отвечаешь? Значит, правда?
Тогда я сорвался. Я был в отчаянии.
— Дура! Столько лет прожила со мной, столько твердила о понимании. О восхищении!.. «Всюду пойду за тобой! Где ни будешь, будем вместе!» — не твои слова? Что осталось? Где восхищение, где понимание? Простая вера в мою порядочность — где она? Какая тупость!
Она снова приложила руку к пульсирующей жилке на виске.
— Андрей! Ты заменяешь объяснение оскорблениями. Раньше ты не обращался со мной так грубо. Не хочешь ответить — сама скажу. Ты не тот, которого я знала столько лет, которым так восхищалась, которого так уважала. Ты переродился, Андрей. Тебя отравила власть, ты захотел ещё большей власти… Эти чудовищные обвинения… Они непереносимы!.. Но сам ты, сам ты!.. Почему сам не признаешься? Стыдишься, что обманул мою любовь, мою веру в тебя?
— Мне нечего стыдиться, Елена! Я действовал так, как велит моя совесть и мой долг. И знай: я больше не дорожу любовью, что рушится при первом ударе. «Где б ни был ты, я буду везде с тобой». Я в тюрьме, а ты? Ты рядом со мной?
— У меня нет твоей вины…
— Да, моей вины на тебе нет. И поэтому ты не заслужила тюрьмы. Можешь гордиться этим. Гордись, что не давишься вонючим хлёбовом, что не предстанешь перед ангелоподобным дьяволом Гонсалесом… Столько причин для гордости!
— Признался! — с мучением произнесла она. — Во всём признался!
— Признался, но не во всём! До полного признания ещё не скоро. Пока признаюсь только в том, что передавал врагам государственные секреты и получал за это деньги, огромные деньги, они на моих счетах в иностранных банках. Признаюсь, что вёл тайную борьбу с Гамовым и мечтал захватить его трон. И приму за эти мои поступки всю тяжесть ответственности. Но это ещё не полное признание, Елена, хотя оно так ужасает тебя. Придёт время, и каждому откроется сущность моей вины. И ты только тогда по-настоящему ужаснёшься! Безмерно, неизбывно, непрощаемо ужаснёшься! А теперь уходи! Мне тяжко смотреть на тебя.
Она поднялась и пошла к двери. Она пошатывалась. У двери она остановилась и обернулась. В лице её не было ни кровинки.
— Последнее слово, Андрей. Ты сказал, что не дорожишь любовью, которая рушится от первого удара. Твоё право — дорожить, не дорожить. Я дорожила нашей любовью. Мы ссорились оттого, что мне её временами не хватало, тебя не хватало. А твоя любовь была мне так бесконечно дорога… Рушится от первого удара… Не просто рушится, Андрей. Есть удары, которые не только уничтожают, но и выворачивают всё наизнанку. Ненавижу тебя! Ненавижу за то, что так долго, так искренно любила, так верила в тебя… Ненавижу и презираю!
Она рванула незапертую дверь. Я пересел с койки на стул — поближе к открытому окну. Сквозь густую решётку проскользнуло солнце, и на полу обрисовалась решётка из света. Камера была полна теней и призраков. У меня так болело в груди, что было больно дышать.
13
Меня казнили в полдень при полном сиянии солнца. Штупа мобилизовал все ресурсы метеогенераторов, чтобы ни одна шальная тучка не приблизилась к Адану. Толпа на площади стала собираться с утра. Тюремная машина шла посередине — две охранные впереди, две позади. Из первой машины вылезли Гонсалес и Пустовойт, с ними их прокуроры и судьи. Палачи в траурных мундирах Чёрного суда уже ждали на площадке, где смонтировали виселицу. Я прикинул на глаз — Пустовойт не обманул, от перекладины, на которой висела верёвка, до земли было точно восемь лан. В стороне стоял оркестр — заглушать мои прощальные вопли, если начну кричать. Всё шло по росписи.
Я поднялся на площадку и оглядел площадь. Тысячи глаз сходились на мне, как в фокусе. Толпа безмолствовала. Вдали в машине я увидел Пеано. Впервые на его лице не сияла улыбка, он плакал обыкновенными человеческими слезами. «Не знает!» — подумал я и отвернулся. Ни один из членов правительства — кроме торжественных Гонсалеса и Пустовойта и плачущего Пеано — не пожелал украсить своим присутствием моё прощание с жизнью. Я поискал глазами Елену, её тоже не было. Я стал под виселицей. Один из сотрудников Гонсалеса зачитал приговор, поворотясь ко мне лицом, потом поклонился мне и пропал позади. Ни одним голосом толпа не одобрила и не осудила приговор. Мне показалось, что от меня ждут прощальной речи. Я сказал палачам: