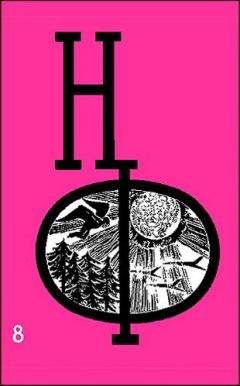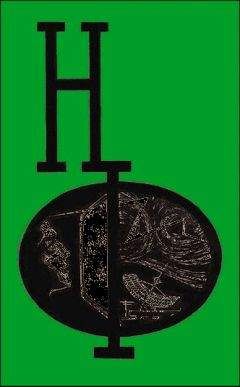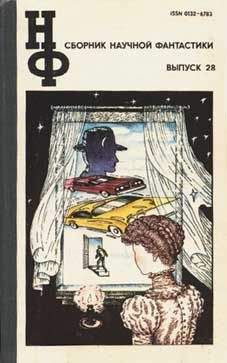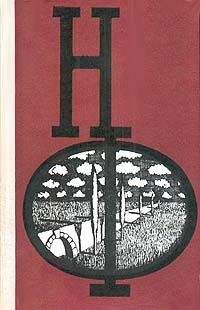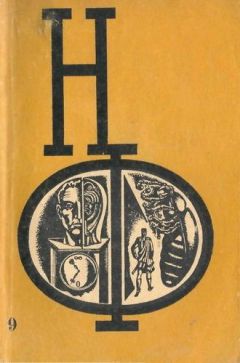Иван Валентинов - НФ: Альманах научной фантастики. Выпуск 15
Ему хотелось жечь и уничтожать колхозы, взрывать и ломать машины, мучить и убивать людей. А он толково руководил строительством, добивался новых, лучших машин и получал их, заботился, чтобы и горожане, и колхозники жили привольнее, зажиточнее, веселее. И скрыто живший в Егорове человек ничего не мог поделать, петому что постоянно пребывал в страхе стоит ему только показаться хоть на миг, как все увидят и закричат: «Вот он, хватайте его!» Страх этот приобрел вполне реальные очертания в начале 1940 года. Выступая однажды на собрании, он увидел невдалеке знакомое лицо. Знакомое не по нынешним, а по прошлым временам. Лицо это мелькнуло в толпе и скрылось. Потом снова появилось. Зыбин кое-как закончил доклад и в изнеможении опустился на стул в президиуме. Он сидел на виду у всех, а ему хотелось Забиться в темный угол, уйти От людей. Наконец пытка кончилась. Дома он тщательно запер дверь, нашел початую бутылку водки, налил полный стакан… Кто же был тот, знакомый? Где встречались? И вспомнил: следственная тюрьма, сосед по нарам, ожидавший суда за поджог. Как его звали? Рыбья какая-то фамилия… Окунев, Уклейкин, Осетров?.. Да, Снетков!.. Что же теперь делать? Бежать? Куда? Да и не успеет… Этот, наверное, уже сидит в райотделе НКВД… Выслуживается, замаливает старые грехи…
Выдвинул ящик стола. Положил на зеленое сукно старый наган, тот самый, егоровский. Воронение местами стерлось, тускло мерцала сталь. В барабане едва виднелись кончики пуль, утопленных в гильзы.
— Шесть им, седьмую — себе… А может, обойдется? Может, я ошибся — у страха глаза велики — бывает же такое. Нет, надо подождать и посмотреть, что будет. Это, — он погладил прохладный металл ствола, — всегда успеется. Раньше, позже — туда дорога есть, а обратно нету…
Он взял нетронутый стакан, вылил водку в ведро под рукомойником, сунул наган под подушку и лег. Страхи отступали, постепенно подобрался и сморил сон.
Старого знакомца он встретил нескоро, почти через год, на улице. Тот стоял у забегаловки-чайной, имевшей в народе насмешливое прозвище «Голубой Дунай». У Зыбина что-то напряглось и похолодело внутри, но он продолжал идти ровным упругим шагом и глядел прямо в глаза Снеткову. Нехороши были эти глаза. Зыбин прошел мимо и не выдержал, оглянулся. Снетковская улыбка была еще хуже глаз — наглая, жалкая и трусливо-жестокая. Зыбин сжал в кармане рукоять нагана — теперь он не расставался с оружием. «Вот сейчас всадит пулю в кривой, желтозубый рот — все…» Но не выстрелил — шагнул к Снеткову. Тот попятился, забормотал невнятно: «Вот и свиделись, Гришенька… а я все сомневался — ты ли это… в начальство вышел, поможешь старому другу, помнишь ведь, как бедовали вместе, баланду тюремную из одной миски…» — Ошибся, приятель. Я никакой не Гришенька, а Егоров Алексей Иванович, запомни!
Зыбин говорил тихо, ровным, лишенным оттенков голосом. Но страшен был этот голос, и Снетков сразу сник, улыбка сползла с его лица, он растерянно заморгал и отступил еще на шаг.
— Я ни с кем еще тюремную баланду не хлебал — тоже запомни. И для тебя же лучше будет, если ты никогда больше не обознаешься, понял? А чтобы соблазна не было — катись отсюда подальше! Чем дальше, тем лучше…
— Так не на что… Я бы и рад, да обнищал до последнего края…
— На, и чтоб я тебя больше не видел!..
Зыбин выхватил из бокового кармана пачку денег. Снетков боязливо протянул руку, и деньги мгновенно исчезли.
— Я письмишко, если позволите, пришлю… Адресок свой…
— Не надейся! Пошел, ну?..
Снетков, оглядываясь, сутулясь, заковылял к вокзалу.
В начале июня 1941 года пришло письмо. От Снеткова. Он был недалеко, в соседнем районе. Писал вежливо, без упоминаний о прошлом. Сообщал, что нездоров и нуждается в помощи. Что было делать? Послать деньги — значило окончательно попасть в лапы Снеткова. Не ответить — придет другое, третье письмо, и рано или поздно тайное станет явным. Зыбин начал готовиться к отъезду. Следовало добыть надежные документы на другое имя. Егоров должен был исчезнуть, как десять лет назад исчез Зыбин.
Но он медлил. Медлил, хотя и понимал, что опасность растет с каждым днем. А после 22 июня, когда с фронтов стали поступать грозные сообщения, когда фашисты заняли Минск и двинулись к Смоленску, отпала (так считал Зыбин) необходимость бегства. Он стал вынашивать иные планы…
IV
…Красное кирпичное двухэтажное здание в переулке близ Большой Пироговской улицы. Местонахождение клиники Егоров определил без труда по дороге — он был коренным москвичом, да и жил недалеко, в Денежном переулке.[2] …Длинный коридор. Слева — двери в палаты, ванную, туалет. Справа окна, выходившие в сад. Окна без решеток, но стекле в них очень толстые, слегка выпуклые. Из окон видны оголенные кусты и деревья, жухлая, порыжевшая трава, посыпанные песком дорожки. Песок впитывает воду, а во впадинах между дорожками лужи, и из них торчат где коричневые, где еще зеленые стебли травы. Вдалеке видна кирпичная стена — высокая, метра в три или больше. Все это Егоров увидел, когда шел в сопровождении двух здоровенных санитаров в «наблюдаловку» — палату для наблюдения, куда его поместили. Ему было неловко идти в одном белье. Ни пижамы, ни халата не дали.
В наблюдаловку — предпоследнюю по коридору палату — Алексея ввели через большую двустворчатую дверь. Дверь (он узнал это позже) была распахнута всегда. Напротив нее в стене светилось широкое — в размах рук — но невысокое застекленное окно. Оно было здесь специально прорезано, чтобы дежурный врач или медицинская сестра могли видеть, что происходит в «наблюдаловке», находясь в своем кабинете. А у дверей постоянно сидели два санитара. Таким образом, за больными неотступно — днем и ночью — следили три или четыре пары глаз.
Шли дни. Егоров освоился и многое узнал, потому что санитары охотно вступали в беседы, не прекращая, однако, наблюдения за больными. Егоров узнал, что в «наблюдаловке» были обитатели постоянные и временные. Постоянные — безнадежно больные. Временными были люди, подававшие надежду либо на полное излечение, либо на значительное улучшение состояния. Их спустя некоторое время переводили в другие палаты, а затем выписывали. Егоров был «временным». Ему сказал это огромный, могучий и каменно спокойный санитар Слава. Слава учился в медицинском институте, а в клинике служил ради практики и заработка. Он, видимо, сказал врачу что-то хорошее о Егорове, потому что Алексею выдали халат и разрешили выходить без сопровождения на прогулки в сад.
Сад окружала высокая кирпичная стена, преодолеть которую было, конечно, невозможно. Это Егоров понимал. Но все же решил использовать прогулки для своего освобождения. Егоров написал письмо в партком железнодорожных мастерских и, прикрепив ниткой камушек, перебросил его через стену. Он знал, что отправляемые обычным путем письма просматриваются врачами, и его послание наверняка не дойдет по адресу. Алексей ждал ответа, считая, что кто-нибудь поднимет брошенное письмо и пошлет в мастерские. Но ответа не было. Он тем же способом переправил второе письмо, потом третье. Никто не явился в клинику. Егоров не знал, что санитары, внимательно наблюдавшие за больными и в саду, видели его проделки, и письма были подшиты в историю болезни. Они служили для врачей подтверждением устойчивости недуга Егорова. И все могло кончиться плохо, если бы не произошли два события. Первым была вечерняя беседа с санитаром Славой, а вторым — приход нового заведующего отделением психиатрической клиники…