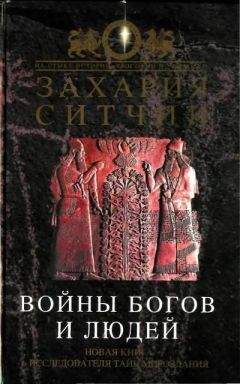Симон Бельский - Лаборатория великих разрушений
Заметив девушку, капитан выпрямился и неожиданно спросил:
— Почему вы не пустили меня сегодня в свой автомобиль?
Ида не знала, что ответить на этот вопрос, и сделала движение, чтобы уйти в комнату.
— Подождите немного, — сказал фон Бейлер таким тоном, как будто быль углублен в разрешение какой-то задачи. — Ночь протянется еще очень долго, — добавил он многозначительно. — Для многих она никогда не кончится.
У девушки шевельнулось чувство сожаления к этому человеку.
— Я знаю, что здесь, в этом маленьком Рансоме, как и во всех углах земного шара, меня считают величайшим преступником, и даже хуже, чем преступником! Иуда, Каин, еще несколько имен и между ними имя человека, потопившего «Гарматанию». Вот мое место! Не правда ли? Но ведь весь свет знает, что я исполнял свой долг.
— Я не желаю говорить с вами об этом, — холодно возразила девушка. — Мне пора идти.
— Еще одну минуту! — Фон Бейлер остановил ее властным тоном голоса. — Пусть я виновен, но скажите, считаете ли вы меня трусом?
— Нет! — без колебания ответила Ида.
— А между тем, я трус! Убивает меня не позор и не сознание своей вины, — есть люди, и много их, которые искренне считают капитана фон Бейлера героем, — а страх, от которого я но могу освободиться никакими усилиями воли. Я никогда ничего не боялся, а теперь боюсь!
— Чего? — невольно спросила девушка.
— С этим нельзя жить, — ответил фон Бейлер на какую-то свою мысль, а потом добавил, повышая голос: — Я вам скажу, что меня угнетает. Произошло это через несколько минут после гибели «Гарматании». Я выпустил в нее не две мины, как писали в газетах, а три, и судно пошло ко дну через десять минут после первого взрыва. Я находился тогда в боевой рубке и через стекла иллюминатора смотрел в воду на два или на три фута ниже поверхности моря. Мимо меня проплывали какие-то обломки, за которые судорожно хватались пассажиры и матросы «Гарматании»; изуродованные взрывом трупы быстро исчезали в зеленой глубине: некоторые из них кружились и вращались вокруг моей лодки. Вдруг я увидел так близко от себя, что мог бы достать ее рукой, молодую женщину с ребенком, которого она прижимала к груди.
…Вдруг я увидел так близко от себя, что мог бы достать ее рукой, молодую женщину с ребенком, которого она прижимала к груди.
На ней было белое длинное платье и, опускаясь, она точно сходила в темную глубину. Женщина эта была еще жива, и ее вытянутая белая рука искала какой-нибудь опоры на поверхности зеленой бездны. Через несколько секунд я увидел ее широко раскрытые глаза, в которых был ужас, жизнь и смерть. Я хотел отвернуться и не мог. Она смотрела на меня через стекла иллюминатора, опускаясь все глубже и глубже, пока наконец не превратилась в смутное белое пятно, но и тогда я все еще видел ее глаза. И я вижу их теперь каждый день, каждый час. Эта женщина и ее ребенок давно лежат там, на дне Ирландского моря. Скользкая холодная тина покрыла их трупы, но ее страшные глаза следят за мной, где бы я ни был! Я приехал в Рансом, поверив шумной рекламе «Всемирного эмигранта», но теперь вижу, что мне здесь нечего делать. Я уйду от Земли скорее и проще!
— Вы больны, — сказала Ида, дрожащей рукой поворачивая ручку двери, — ваши нервы не выдержали того, что вы сделали и видели.
— Прощайте! — ответил капитан, и потом Ида как во сне увидела, что фон Бейлер одним движением очутился по другую сторону решетки, повис на одно мгновенье на вытянутых, мускулистых руках над ярко освещенной глубиной, и с мучительным восклицанием, в котором чувствовалось напряжение всех сил, разжал пальцы и полетел в пропасть.
Все закружилось перед глазами Иды; инстинктивно ища опоры, она сделала два шага назад и опустилась на мягкий ковер у порога своей комнаты.
Когда к Иде вернулось сознание, в комнате фон Бейлера происходило какое-то движение, слышались растерянные голоса и громче всех голос Стоктона, который кричал:
— Черт бы побрал этого негодного капитана! Его смерть может обойтись нам очень дорого! Такие случаи, подхваченные газетами, подрывают доверие к делу. Акции «Эмигранта» и без того начали сильно колебаться. В наше время даже самоубийцы не должны забывать о существовании биржи.
Закончив этим афоризмом, рассерженный миллиардер так бешено хлопнул дверью, как будто навсегда хотел закрыть доступ в комнату, где лежал изуродованный труп фон Бейлера.
III. Два мира
Компании «Всемирного эмигранта» приходилось три раза под разными предлогами откладывать отправление «Левиафана». В газетах разных стран начали появляться статьи о том, что прославленное изобретение гениального русского инженера и его бельгийского сотрудника существует только на бумаге, далеко не доведено до конца, и что поэтому все предприятие американских миллиардеров представляет одну из тех опасных капиталистических авантюр, которые в то время потрясали весь экономический строй Европы. Правительства и парламенты с возрастающим неудовольствием следили за агитацией компании, которая привлекала пока в Рансом сравнительно ничтожное число эмигрантов, но зато была вредна в том отношении, что ослабляла энергию и трудоспособность рабочей массы. Миллионы людей охотно и быстро усваивали аргументы таких проповедников, как Витстон, и хотя и не думали о возможности покинуть землю и ничего не ждали от неба, но зато и на земле видели лишь безысходные страдания, нищету, взаимную вражду, обман, лицемерие и предательство.
Железный «Левиафан», который ни за что не хотел двинуться со стапелей, чтобы направиться к иным мирам, сделался эмблемой бессилия человечества и его безграничных стремлений. Уродливые изображения этого стального чудовища, ползающего по земле со сломанными крыльями, служили постоянной темой для карикатур. Директора компании щедро сыпали золото, чтобы поддержать падающие акции. Некоторое время им это удавалось, главным образом благодаря влиянию и энергии Стоктона, но затем обнаружились явные признаки приближения неминуемого краха. Тогда все внимание и все надежды главных акционеров сосредоточились на Склярове. Его засыпали приказаниями, требованиями, обещаниями огромных наград и премий, грозили и упрашивали: инженер целые ночи проводил за письменным столом. Он пытался заменить вдохновение механической работой над формулами, но каждый раз натыкался на непреодолимые трудности. Он сам, как и Лебрен, отлично понимал, что для того, чтобы закончить «Левиафан», ему необходим еще один такой час, какой был год назад в ясное утро на берегу моря. Но час этот не приходил. Вдохновения не было, и мертвое чудовище из железа и стали беспомощно повисло между небом и землей.