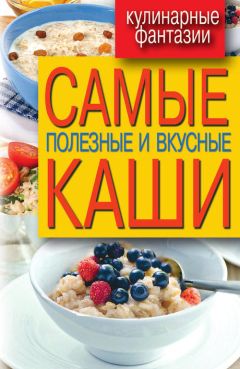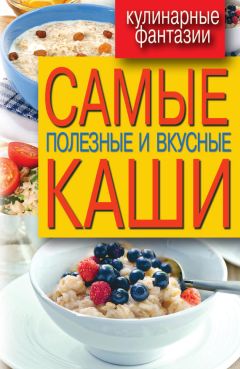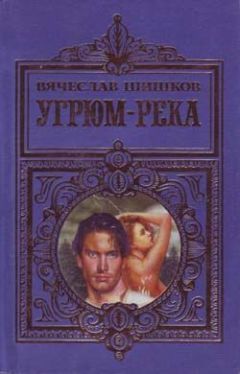Виталий Забирко - Все пули мимо
— Привет, — говорю.
— Здравствуйте, — так это вежливенько отвечает он, а взгляд у него такой настороженный, что у зверька испуганного.
— Тебя как зовут? — спрашиваю.
— Пупсик.
— Как?! — отпадает у меня челюсть.
— Пупсик, — повторяет он.
Я начинаю хохотать, но тут же обрываю смех, вспомнив, какой фамилией самого предки наградили.
— А по-настоящему?
— Это как? — удивляется он.
«По паспорту», — чуть было не ляпнул, но вовремя остановился. Откуда у мальца паспорт — на вид-то ему лет десять, не больше.
— По свидетельству рождения, — подсказываю.
— Не знаю…
— Мать-то с отцом как тебя называли?
— Я их не помню, — спокойно отвечает он. Беспризорники, когда так отвечают, обычно начинают носом хлюпать. А этот — нормально себя ведёт, безразлично и даже равнодушно.
— Ладно, — встаю с постели. — Пупсик, так Пупсик. А меня — Пес… — тут я спохватываюсь. — Борис Макарович.
И в груди так это теплеет, гордость некая появляется, что наконец меня хоть кто-то по имени-отчеству величать будет.
— Красиво… — заискивающе тянет Пупсик. — Пес Борис Макарович.
— Чево?! — челюсть у меня падает во второй раз. — Не пёс я, а просто Борис Макарович! — гаркаю на него.
Пупсик втягивает голову в плечи и испуганно лепечет:
— Хорошо, Борис Макарович…
— Вот так-то лучше, — назидательно бурчу я и направляюсь в ванную.
По пути мимоходом заглядываю во вторую комнату и столбенею. И уж не помню, отваливается ли у меня челюсть в третий раз или нет. В комнате чисто и аккуратно, как не было даже до пожара. И, что удивительно, диван целёхонький, и не то, что пепла, ям выгоревших в нём нет. Как заворожённый подхожу к дивану, щупаю велюр. Приснился мне ночной пожар, что ли? И тут замечаю, что там, где ночью ямины выгоревшие зияли, ворс велюра как бы короче, словно вытерт задницами, хотя кто и когда это мог сделать, если я диван всего полгода как купил, а гостей не больно-то жалую?
— Вы не беспокойтесь, Борис Макарович, — извиняясь, говорит за спиной Пупсик, — к вечеру отрастёт. Только… Только я вас очень прошу, не выгоняйте меня. Я вам полы мыть буду, стирать, помогать… — А голос у него надтреснутый, исстрадавшийся, а к концу вообще плаксивым становится.
— Отрастёт… — обалдело шепчу я, осторожно провожу рукой по проплешине, а затем машинально тру подбородок. Ощущение почти идентичное, что по бороде небритой, что по «отрастающему» ворсу велюра. — Ладно, посмотрим, — не глядя на Пупсика, бурчу, то ли отвечая на его просьбу, то ли по поводу «зарастания» проплешин на диване. И плетусь в ванную.
Пока брился да умывался, решил — оставлю. Шлюх я сюда не вожу, в гостиницах с ними якшаюсь, а бабка Манька, что раз в неделю у меня убирает, уж больно дорого обходится. Мало того, что я ей неслабо плачу, так она ещё из холодильника продукты тибрит. И потом — лестно всё-таки иметь домашнего слугу, который, как почему-то подумалось, будет предан мне душой и телом.
Выхожу из ванной, слышу, Пупсик на кухне посудой звенит. Одеваюсь и захожу туда. И глазам своим не верю. На столе мой фирменный завтрак стоит: яичница с беконом и помидорами и чашка чёрного кофе. Причём яичница приготовлена именно так, как я люблю — не глазунья, а болтушка. И откуда Пупсик узнал об этом?
— Садитесь кушать, Борис Макарович, — приглашает Пупсик, а сам цветёт весь, будто о своём решении его оставить я уже сообщил.
«Экстрасенс хренов», — думаю, но не зло, а так, благодушно.
Сажусь за стол и тут только обращаю внимание, что прибор-то один. Достаю из шкафа чистую тарелку, вилку, переполовиниваю яичницу, накладываю.
— Садись и ты, вместе завтракать будем, — предлагаю Пупсику.
У него глаза круглыми делаются.
— Вместе? — недоверчиво тянет он.
«Ну вот, а я тебя ещё экстрасенсом обозвал», — говорю ему про себя, а вслух высказываюсь с нажимом и твёрдо: — Раз я тебя решил оставить, значит, есть будем вместе.
Без лишних уговоров Пупсик взгромождается на табурет и берёт в руки вилку.
Я достаю чистую чашку, хочу и кофе переполовинить, но Пупсик меня останавливает:
— Спасибо, но мне этого нельзя.
«Ах да, — спохватываюсь про себя. — Кофе ведь возбуждает…»
— А молоко будешь?
— А можно?
Я только хмыкаю, открываю холодильник, достаю пакет и наливаю ему полную чашку.
Что удивительно для беспризорника — как я понимаю, вечно голодного, — ест Пупсик тихо и аккуратно, не чавкая и не давясь. Посмотрел я, как он ест, и сам приступил. Яичница у него вышла на славу — такую мне не сварганить. Ну а кофе ва-аще обалденный — мне и в самых крутых ресторанах такого не подавали. Да и, честно говоря, бурду там готовят, так как посетители кофе последним требуют, когда сами уже основательно поддавши и на качество напитка им наплевать.
Поели мы, гляжу, Пупсик посмурнел что-то, и глаза какими-то скучными стали.
— Что, брат, — спрашиваю, — от еды осоловел?
— Да нет, — бормочет он. — Я немножко перерасходовал себя, когда в комнате убирал. Приступ может начаться…
Вот чёрт, об этом я как-то уже и забыл, когда решил его оставить. А ведь проблема не из весёлых. Не хватало мне в сиделках при нём приписаться.
— Ладно, идём уколю, — хмуро бормочу я и веду его в комнату. А сам думаю, как у меня на этот раз получится? Одно дело два раза ширять в бесчувственное тело, а другое — когда он в сознании.
— Держи, — подаю ему пузырёк с микстурой, — прими столовую ложку, — а сам шприц начинаю готовить.
Взял Пупсик пузырёк, в руках подержал и обратно на стол поставил.
— Почему не пьёшь? — спрашиваю, доставая из коробки ампулу.
— Я уже, — отвечает он и, пока я недоумённо на него пялюсь, отбирает у меня ампулу, зажимает её в кулаке, а затем ладонь разжимает. И вижу я, что до того ампула была наполнена какой-то розоватой гадостью, а теперь пустая. И, что характерно, целёхонькая, будто её пустой и запаивали.
— Ну ты могёшь… — только и выдавливаю из себя.
— Так что, Борис Макарович, вам за мной больше ухаживать не придётся, — сообщает Пупсик. — Одна просьба, чтобы лекарства у меня всегда под рукой были. А уж я вам пригожусь. Не пожалеете.
«Пригожусь…» — ошалело повторяю я про себя. Совсем как в сказке про Конька-горбунка. Ну, горбунок-то, положим, он основательный. А вот насчёт конька я что-то сомневаюсь…
Он садится на краешек кресла, так это чинно, как школьник, не прислоняясь к спинке, и складывает ручки свои кривые на животе. Ни дать, ни взять какой-то восточный божок уродливый.