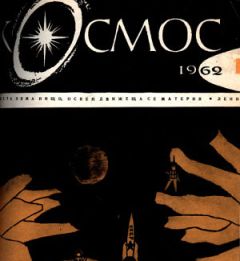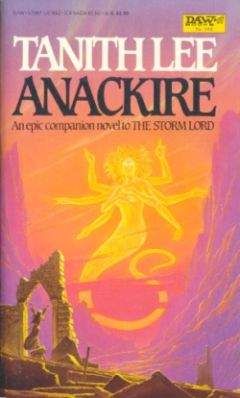Игорь Ткаченко - Путники
Отворила молодая красивая женщина. Тень страха мелькнула в ее глазах, когда она поняла, что за гости посетили ее дом. А может быть, Джурсену это всего лишь показалось.
— С Днем Очищения! — радушно улыбаясь, произнесла женщина. — Входите же!
— Пусть Очищение посетит этот дом, — произнес Джурсен формулу приветствия дознателя. Чем-то эта женщина напоминала ему Ларгис. Глазами? Улыбкой? Голосом?
— Кто там? Кто пришел, Алита? — послышалось из глубины коридора, и появился высокий черноволосый мужчина в заляпанной красками блузе. Он мельком взглянул на гостей и склонился к женщине.
— Алита, сходи к соседям, побудь пока у них, — сказал он и ласково приобнял за плечи, направляя к выходу. — Ну иди же.
Когда женщина вышла и двое стражников встали у двери, чтобы не впускать никого до окончания дознания, художник повернулся к Джурсену и Наставнику.
— Прошу, — сказал он.
В мастерской, просторной светлой комнате с окном во всю стену, выходящим на крыши домов, вдоль стен стояли подрамники, громоздились какие-то рулоны, коробки, в воздухе витала сложная смесь запахов краски и почему-то моря. Наставник, вошедший вслед за художником и Джурсеном, скрылся за стоящей в дальнем конце комнаты ширмой, стукнул об пол его посох, и наступила тишина.
Остановившись посреди мастерской, художник оглядывал ее так, словно увидел впервые. Он отодвинул зачем-то в сторону мольберт, потом принялся старательно вытирать тряпкой и без того чистые руки.
Джурсен ему не мешал и не обращал на него, казалось, ни малейшего внимания. Это был испытанный прием. Художник виновен, Джурсен уже почти наверняка знал это, знал и сам художник. Пусть поволнуется. Хотя, конечно, за эти несколько минут он, наоборот, может успокоиться, собраться с мыслями и подготовить аргументы в свою защиту. Пусть так. Джурсен не боится схватки. Куда приятнее иметь дело с умным человеком, чем с ошалевшим от ужаса и ничего не соображающим животным.
Джурсен медленно пошел вдоль одной из стен, одну за другой поворачивая и разглядывая картины. Тут в основном были портреты. Законченные и едва намеченные углем, поясные и в рост, было несколько городских зарисовок и сцен из священных книг. Чем больше Джурсен смотрел, тем большее им овладевало недоумение: где же здесь умысел? Где преступление? Это были работы ради денег, и только. Профессиональные, талантливые, Джурсен в этом разбирался, но — ради денег.
Джурсен почувствовал, что азарт охотника, охвативший его вначале, понемногу исчезает. Он подошел к следующей стене и, повернув к себе один из холстов, сначала ничего не мог разобрать, но постепенно детали начали вырисовываться. Темное распахнутое окно, смутный силуэт человека подле него, в углу — край смятой постели. Картина не была закончена, ее дописало воображение Джурсена. Ведь это его, Джурсена, комната, его окно, его постель. Это он, Джурсен, стоит перед окном, а там, невидимые в темноте — Запретные Горы.
Он повернул еще картину, еще одну, еще и еще в поисках подтверждения? опровержения?
Сидящая на постели девушка, руками она зажимает себе рот, в глазах, непропорционально огромных на бледном узком лице, — ужас и крик. Что она увидела там, за границей картины? Ларгис. Не увидела, а услышала. Его, Джурсена, признание, его тайну, его тоску.
Восход солнца над морем, не восход, а лишь предощущение восхода, когда море и небо еще едины, еще не вспыхнули вершины гор, еще не поплыл над миром гул колокола из Цитадели.
— Как ты назвал ее? — тихо спросил Джурсен.
— «Предощущение», — так же тихо отозвался художник.
Джурсен почувствовал вдруг к нему ненависть и жалость одновременно. Он вглядывался в его лицо и угадывал в нем себя. Такого, каким он мог бы стать, если бы мальчишкой еще, вернувшись однажды с занятий у художника, не обнаружил на месте дома развалины. Родители его, охваченные общим порывом уничтожения стен и перегородок, уничтожили их в доме слишком много, и кровля, лишенная опоры, обрушилась.
Этим художником мог бы быть он сам. Эта мастерская или точно такая же могла принадлежать ему, и этой женщиной могла бы быть Ларгис. Это могли быть его, Джурсена, картины. Он написал бы их!
— Твои родители живы? — спросил он.
— Погибли под развалинами во время уничтожения стен, — сказал художник. — Крыша обрушилась. Я был на занятиях, а когда вернулся…
Джурсен вздрогнул как от пощечины и расхохотался, но тут же оборвал смех, умолк и молчал долго, а когда заговорил, голос его был тих и спокоен.
— Ты пришел и увидел развалины, и там еще копошились соседи, разбирая утварь, и кто-то сказал тебе, что твоих уже увезли. Ты так их и не нашел. Ночевал ты там же, на развалинах, а потом в других местах, где придется. Лучше всего на пристани, где склады, там всегда можно поживиться рыбой и испечь ее в золе; еще хорошо в торговых рядах, но там у одноглазого сторожа была длинная плетка с крючком на конце… Вас таких было много, были постарше, они умели воровать, и были совсем маленькие, которые ничего не умели. Потом они куда-то все подевались. У тебя оставалась пачка бумаги и уголь, ты рисовал торговцев на пристани, и они тебя кормили… А что было потом?
— Откуда ты это знаешь? — ошеломленно пробормотал художник. — Я никому этого не рассказывал… Потом меня взял в ученики художник.
«А я попал в приют», — чуть не вырвалось у Джурсена, но вместо этого он сказал:
— Бывают дни, когда ты не можешь найти себе места, все валится из рук, все раздражает, все вокруг кажется серым и унылым, друзья глупыми и скучными, а работа — бездарной мазней. Но еще хуже — ночи. Ты просыпаешься, будто от толчка, и уже не можешь уснуть. Ты распахиваешь окно и смотришь в темноту, туда, где — ты знаешь — громоздятся на горизонте Запретные Горы. И больше всего на свете тебе хочется уйти из Города, просто взять и уйти, и идти долго-долго, в горы, перейти через них и опять: идти, не останавливаясь. А иногда тебе снится, что ты летаешь. Тогда пробуждение твое бывает ужасным. Ведь во сне ты летаешь над горами…
— …над морем, — прошептал художник.
— …и дышится легко, так легко, как никогда не дышится наяву. Ты никому никогда этого не рассказывал, только однажды ночью. Жене. А она…
— Алита? Не может быть! — художник вдруг осел на пол, будто ему подрубили ноги. — Но зачем?! Неужели… — Он обхватил голову обеими руками и застонал, раскачиваясь из стороны в сторону. — Теперь я понимаю, — бормотал он, — теперь я все понимаю…
Джурсен, не ожидавший такой реакции, ошеломленно смотрел на него. А художник вдруг вскочил, лицо его исказилось, и он закричал:
— Да! Да! Верно! Она все верно рассказала, все так! Да, я уходил из Города, дважды уходил и дважды возвращался, потому что боялся, не мог уйти насовсем. От нее не мог уйти!