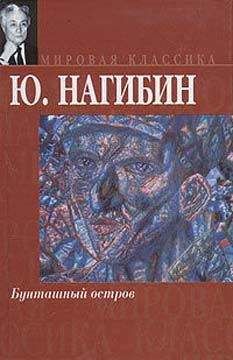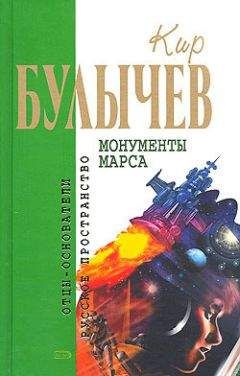Юрий Брайдер - Евангелие от Тимофея. Клинки максаров. Бастионы Дита
Начинался второй тур смертельного танца.
– Пой! – крикнул я Головастику. – Пой свою любимую поминальную песню! Теперь уже можно!
– З-з-забыл! – едва выдохнул тот. Говорить Головастику мешали зубы, клацавшие прямо-таки в пулеметном темпе. – Все з-забыл. И слова забыл, и мотив.
Оставшиеся в живых болотники ножами кололи оболочку шаров. Теплый воздух шипя вырывался из отверстий, и мы падали все быстрее. Внизу потемнело – приближалось что-то гораздо более плотное, чем туман: может, слой облаков, а может, долгожданная твердь, но косокрыл, продолжающий неумолимое преследование, был уже совсем рядом.
Выше нас скользил одинокий шар, на котором гроздью висели сразу трое болотников. Наверное, это были последние, кто покинул помост. И вот, когда планирующий косокрыл оказался прямо под этим шаром, одна из фигурок солдатиком бросилась вниз.
Никогда в жизни я не видел больше воздушной акробатики такого класса! И нигде больше мне не встречались такие отчаянные храбрецы! Как он не промахнулся, как не расшибся о жесткий хребет, как удержался на гладкой, влажной от тумана шкуре? Сидя на спине косокрыла, у самого основания шеи, человек казался крошечным, как слепень на загривке быка. Чудовище, похоже, даже и не замечало его присутствия.
Но вот болотник, ловко орудуя ножом, принялся кромсать неподатливую плоть – и косокрыл вздрогнул, мотнул головой, заложил резкий вираж влево. Теперь он уже не выписывал плавных кругов, а метался из стороны в сторону, то исчезая в тумане, то появляясь снова в самых неожиданных местах. Болотник словно прирос к своему гигантскому противнику и резал, рубил, долбил его шею, подбираясь к спинному мозгу. Наконец косокрыл с резким хлопком сложил крылья и сорвался в штопор. Маленькая фигурка, словно подброшенная катапультой, взмыла вверх. Несколько баллонов устремилось к смельчаку на выручку, но их перемещение было настолько же медлительным и неуклюжим, насколько грациозен и стремителен был свободный полет человеческого тела, увлекаемого к земле неумолимой силой тяготения.
Снизу быстро приближалось что-то темное, бугристое, колючее, как шкура дикобраза. Косокрыл, пытаясь набрать высоту, бился из последних сил и вдруг весь смялся, переломился, разрушился, как столкнувшаяся с препятствием хрупкая авиамодель. Острые вершины деревьев во многих местах пронзили его крылья.
Последний слой тумана исчез, и в десяти метрах под собой я увидел землю – черную, раскисшую, лишенную всякой травы, сплошь изрытую ямами, канавами и ржавыми озерцами.
Мы шлепнулись в густую мерзкую грязь, и она сразу накрыла нас с головой, залепила глаза и уши, хлынула в рот, нос, глотку, тисками сдавила тело, проникла в легкие…
Если когда-нибудь мне доведется стать здешним историографом, труд свой я начну примерно так:
«Мир сей состоит из трех враждебных друг другу, но неразделимых частей, трех вечных стихий – Вершени, Иззыбья и Прорвы. Таким он был создан изначально, таким он придет к своему концу.
Вершень – это всепланетный лес могучих и бессмертных занебников, гигантских деревьев-вседержателей, любое из которых высотой и массой не уступает Монблану. Соприкасаясь сучьями, они образуют целые континенты, высоко вознесенные над поверхностью планеты. Своими соками занебники питают несчетное количество живых тварей и растений-паразитов.
Занебник, давший мне приют, именуется Семиглавом. Странное, волнующее значение заключено в названиях тех мест, где ты страдал или был счастлив…
Вершень, если отвлечься от частностей (колодки, бадья с тошнотворной размазней, кровавые мозоли на ладонях), ассоциируется для меня с вечным шумом ветра, с туманами, расцвеченными тысячами радуг, с волшебной чистотой воздуха, а главное – с зеленью. Зеленью всех возможных колеров и оттенков.
Иззыбье – серая, топкая хлябь, лишенная всяких ярких красок. Здесь ни тепло, ни холодно, а ветер не приносит свежести. Сюда никогда не достигают солнечные лучи. Тут не знают смены времен года.
Но именно отсюда занебники сосут свои соки, в этой почве находят опору их исполинские корни, сюда роняют они все мертвое, ненужное, отслужившее свой срок. Иззыбье – колыбель жизни и прибежище смерти.
Между Вершенью и Иззыбьем только Прорва. Она объединяет, она же и разъединяет эти две стихии. Прорва есть напоминание о высших, запредельных силах. Символ ее – косокрыл, существо, никогда не искавшее себе иной опоры, кроме пустоты. Косокрылы рождаются, кормятся, спариваются и спят в полете. Даже мертвые, они способны многие месяцы подряд парить в восходящих потоках воздуха, наводя страх на все живое…
Вершень, Иззыбье, Прорва – жуткая сказка, к которой я едва-едва прикоснулся…»
Встретили нас хоть и не особенно любезно, однако захлебнуться в трясине все-таки не дали. Из всего процесса реанимации самой неприятной оказалась процедура очищения от грязи. Очищали нас главным образом изнутри. На грязь наружную здесь внимания не обращают.
Едва только наша четверка немного отдышалась, обсохла и смогла самостоятельно глотать, наступило время трапезы. Проходила она примерно так: каждое новое блюдо, подносимое Шатуну, вызывало у него явно негативную реакцию. Он морщился, крутил носом и отдавал его Головастику. То же самое происходило и со вторым блюдом, доставшимся мне, и с третьим, которым завладел Яган. Лишь каждая четвертая порция казалась Шатуну приемлемой, и он неспешно, даже как-то снисходительно отщипывал от нее несколько кусочков. Удивительная привередливость, особенно если учесть, что все мы не ели больше суток. Таким образом, опостылевшая колодка теперь весьма выручала нас. Пока она соединяет нас с Шатуном, голодной смерти можно не бояться.
Наконец повара (угрюмые личности, по виду ничем не отличавшиеся от громил из банды Змеиного Хвоста), собрав опустошенную посуду, удалились. На смену им явилась целая делегация старцев весьма зловещего вида. Их растрепанные, уже даже не седые, а какие-то грязновато-зеленые бороды спускались до колен, жутко выступающие ребра были покрыты паршой и струпьями, иссохшие члены тряслись, глаза светились безумным огнем. У одного веки были зашиты грубой нитью, у другого ухо оттягивал внушительный булыжник, третий на цепи волочил за собой полутораметровую чурку, тела остальных также носили следы самоистязаний и крайнего аскетизма.
Самый ветхий и уродливый из этих патриархов приставил ко рту Шатуна глиняную чашку, но тот крепко сжал губы и рукой указал на нас. Старик недовольно забормотал что-то, но был вынужден уступить. Все мы по очереди пригубили по глотку отвратительного, безнадежно прокисшего, пахнущего куриным пометом пойла. Едва оно успело достичь моего переполненного желудка, как в висках тихонечко зазвенело, окружающий пейзаж утратил четкость, приятное тепло подобралось к сердцу, а мрачные мысли улетучились. Я радостно икнул и рассмеялся. Скрюченный в дугу бельмастый старец с изуверской рожей вдруг стал казаться мне чуть ли не отцом родным. Я доверчиво протянул к нему руки и напоролся ладонями на шипы какого-то растения, хотя никакой боли при этом не почувствовал. Чтобы проверить ощущения, я ущипнул себя за плечо – с тем же результатом.