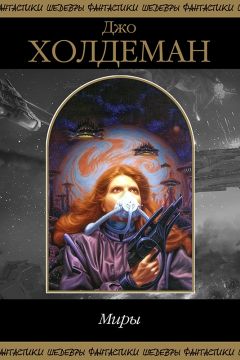Павел Амнуэль - Имя твоё...
Так мы с мамой вдвоем и остались. В Москву я не поехала, поступила в местный техникум – подумаешь, чтобы стать бухгалтером, не нужно оканчивать столичных институтов, мама вообще получила только среднее образование, в войну ей было не до университетов.
Ты приснился мне в ту ночь, когда наша группа устроила вечеринку по поводу начала зимних каникул. Гуляли у Марины, и я, как обычно, сидела в своем любимом кресле – у подруги было старое кожаное кресло, которое когда-то было красным, а теперь обтрепалось настолько, что от кожи остались лоскуты, а цвет можно было угадать лишь при большой фантазии. Я сидела в кресле, листала модный журнал, который Марина по знакомству приобрела у киоскера Фомича, и думала о своем. Кто-то подваливал ко мне время от времени с предложениями потанцевать и пообжиматься, но я только головой качала, потому что танцевать не хотелось, а обжиматься с нашими парнями я стала бы только под дулом пистолета. Не то чтобы я чувствовала себя в чем-то другой, а компанию – недостойной, все было гораздо сложнее, и понимать это я стала позже, когда мы с мамой все-таки переехали в Москву. Того, что со мной происходило, я не понимала и не парней ругала, они вели себя так, как вели бы себя в подобной ситуации почти все, может быть, за редким исключением. А у меня внутри все сопротивлялось и все жаждало именно того, чему я изо всех сил противилась. Что такое гамлетовские проблемы по сравнению с этими, когда хочется чего-то и чего-то не хочется, когда мир видится ясным до полной прозрачности и в то же время непредставимым и чужим до такой степени, что хочется забиться в собственную раковину, закрыть створки и сквозь узкую щель наблюдать за тем, что происходит снаружи. И одновременно хочется быть снаружи и весело жить, чтобы не было потом жалко неиспользованных возможностей и больно за то, что молодость пролетела, а я не испытала и сотой доли того, что предоставляла судьба – ведь даже в самом диком захолустье судьба на самом деле способна предоставить любому столько возможностей, сколько он сумеет себе вообразить и, главное, понять, что возможность уже предоставлена и нельзя ее упускать, судьба не простит.
И тогда ты ведешь себя, как буриданов осел, метавшийся меж двух стогов сена, да так и умерший от голода. Я не могу тебе объяснить, Венечка, ты сам попытайся понять, ты же меня понимаешь, конечно, Алина, я понимаю даже больше, чем ты можешь сказать мыслью, я вижу, как ты сидишь в углу большой и очень неуютной комнаты, вся в себе, вся в отсутствии, Марина подошла ко мне и сказала сердито: «Линка, имей совесть, Зорик из-за тебя сейчас бузить начнет, потанцуй с ним, он тебе что, противен?» «Нет», – сказала ты, но танцевать не пошла и не могла пойти, потому что Зорик почему-то представился тебе вдруг в черном камзоле и при шляпе с пером – точь-в-точь как отрицательный персонаж в одном французском костюмном фильме из жизни времен короля Людовика Шестнадцатого.
Неприятный был тип, и, когда положительный герой заколол его в конце фильма, я с удовольствием вздохнула, почувствовав, что не зря потратила свой рубль. Танцевать с таким? Лучше уйти домой, но я знала, что так просто мне уйти не дадут, ребята уже выпили, кто-нибудь непременно подрядится меня проводить, и хорошо, если один, хуже, если вдвоем, тогда они непременно по дороге переругаются, воображая, будто мне невыразимо приятно, когда парни ссорятся или даже дерутся из-за девушки, тем более, что на самом-то деле им до девушки и дела нет, просто кровь кипит, и нужно показать свою удаль, свой мужской темперамент. Пусть даже передо мной, кого они за глаза называли «дурой-недотрогой», я это знала, слышала, хотя говорили обо мне, конечно, не в моем присутствии, но я все равно знала, такие вещи ощущаются, а не слушаются, я не могу тебе этого объяснить… и не надо мне этого объяснять, я все понимаю и даже то, что в тот вечер тебе так и не удалось уйти домой по-английски… да, Зорик все-таки пошел со мной и, конечно, дал волю рукам, когда мы дошли до нашего парадного, а я сказала ему: в углу, посмотри, что это – совсем, как в «Борисе Годунове», только там, конечно, не мальчики кровавые скрывались, а всего лишь тень от оконного переплета так легла, что казалась тощим человеком, размахивавшим руками-спичками. Зорик отвлекся на мгновение, а я выскользнула и взбежала на наш третий этаж так быстро, будто ставила рекорд – видела однажды по телевизору, как где-то, то ли в Англии, то ли в Штатах устраивали соревнование: кто скорее взбежит по лестнице на верхний этаж небоскреба, так я в тот вечер, вероятно, установила рекорд, правда, небоскреба не было, и рекорд я установила на спринтерской дистанции, Зорик внизу кричал что-то, чего и вспоминать не хочется… и не нужно вспоминать, Алина, я знаю, что он кричал, потому что помню так же, как и ты, какое странное ощущение – извлекать из своей памяти воспоминания, которые мне не принадлежат, то есть, теперь уже принадлежат, конечно, как и то, что помню я, ты, наверно, можешь вспомнить… да, Веня, я вспоминаю и должна сказать, что кое-что мне не нравится, даже совсем не нравится… ну, родная моя, а уж как мне не нравится то, какой ты была в те годы, и то, что ты позволила этому Зорику хотя бы предположить, что он может сделать с тобой то, что ему хотелось… не нужно об этом, Веня, я только рассказываю, как плохо мне было, когда я вошла в квартиру и заперла дверь не только на ключ, но и на обе щеколды. Зорик, конечно, не стал бы ломиться, тем более, зная, что мама дома, но все равно мне обязательно нужно было отгородиться от мира всеми возможными способами.
Да, я понимаю, я и сам иногда так делал – запрешься один в комнате, выключишь свет, забьешься в угол на диване, закроешь глаза, и ты один, кроме тебя ничего не существует в целой Вселенной, посидишь так четверть часа, и кажется, что тебя тоже не существует, а есть некий мировой разум, который временно пользуется твоим телом, чтобы узнать, понять, усвоить… Ты не представляешь, Алина, как в такие минуты хорошо думается, почему не представляю, Веня, это называется медитацией, я много прочитала потом на эту тему, сама пробовала медитировать, но это было потом, когда мы с мамой переехали в Москву, а в ту ночь я заперла двери и бросилась в ванную, она у нас была совмещенная, дом-хрущевка… что ты мне рассказываешь, Алина, у нас был такой же, только ванная была не совмещенная, а располагалась странным образом между кухней и прихожей, и, чтобы попасть в кухню, нужно было пройти через ванную комнату, представляешь?
Конечно, представляю, и помню, как тебя нервировало, что невозможно толком помыться, потому что кому-то непременно нужно пройти на кухню, приходится отгораживаться занавеской, и все равно кажется, будто ты голый у всех на виду, неприятно, а я тогда закрылась в ванной и больше часа сидела в теплой воде. Мама забеспокоилась, она слышала, наверно, как Зорик снизу кричал всякие скабрезности, и, наверно, подумала, что я решила наложить на себя руки. Сначала она тихо постучала в дверь и спросила меня, все ли в порядке. Мне не хотелось отвечать, я была в сомнамбулическом состоянии, ждала, что ты придешь ко мне, хотя и не понимала, конечно, чего именно жду. А мама, не услышав ответа, принялась колотить в дверь изо всех сил, она бы непременно сорвала крючок, если бы я не нашла силы ответить. Не знаю, что я сказала, наверно, какую-то глупость, во всяком случае, мама потом ни за что не хотела повторить мне моих же слов.