Роберт Хайнлайн - Фрайдэй
Главными развлечениями в Паджаро Сэндс были те естественные достопримечательности, из-за которых его и построили: волны, песок и солнце.
Мне нравился серфинг, пока я не набралась опыта. Потом он стал мне надоедать. Обычно я каждый день немного загорала, плавала и разглядывала большие танкеры, заполнявшиеся у нефтяных причалов, и с удивлением заметила, что вахтенный на борту каждого судна часто смотрел в бинокль в мою сторону.
Никто из нас не мог скучать, потому что у каждого был личный терминал. Сегодня люди так привыкли к компьютерным сетям, что легко забыть, каким окном в мир они могут быть — и я не исключаю себя. Можно настолько привыкнуть использовать его только для определенных вещей: оплаты счетов, телефонных разговоров, прослушивания новостей — что можно забыть о более ценных применениях. Если подписчик готов заплатить за обслуживание, с помощью терминала можно сделать почти все из того, для чего не нужно ложиться в постель.
Музыка? Я могла бы запросить концерт, передающийся в этот вечер «вживую» из Беркли, но концерт, который был дан десять лет назад в Лондоне, дирижер которого давно умер, будет выглядеть таким же «живым», как любой из указанных в программе на сегодня. Электронам все равно. Как только данные любого рода попадают в сети, время замирает. Необходимо только помнить, что все безграничные богатства прошлого будут доступны в любое время, стоит только сделать запрос.
Босс послал меня учиться к компьютерному терминалу, и у меня было намного больше возможностей, чем у любого студента Оксфорда, Сорбонны или Гейдельберга прошлых лет.
Сначала мне не казалось, что я буду учиться. В первый день за завтраком мне сказали явиться к главному библиотекарю. Это был добрый старикан, профессор Перри, с которым я познакомилась во время прохождения начальной подготовки. Он казался измученным — вполне понятно, потому что библиотека босса была, наверное, самой громоздкой и сложной вещью из тех, которые перевозили из Империи в Паджаро Сэндс. Несомненно, у профессора Перри впереди были еще недели работы, прежде чем все будет приведено в порядок — и при этом босс не ожидает ничего другого, кроме абсолютного совершенства. Эта работа не облегчалась эксцентричным желанием босса иметь для значительной части библиотеки вместо кассет, микрофиш или дискет бумажные книги.
Когда я явилась к профессору Перри, он забеспокоился, а потом указал на консоль, стоявшую в углу. — Мисс Фрайдэй, а почему бы вам не сесть вон там?
— А что я должна делать?
— А? Это трудно сказать. Я не сомневаюсь, нам скажут. Гм. Сейчас я страшно занят, и мне ужасно не хватает людей. Почему бы вам не ознакомиться с оборудованием, изучая все, что вам захочется?
В оборудовании не было ничего особенного за исключением того, что там было несколько дополнительных клавиш, предоставлявших прямой, без человеческого или сетевого соединения, доступ к нескольким крупным библиотекам, таким как Гарвардская, или Вашингтонская Библиотека Атлантического Союза, или Британский Музей — плюс уникальную возможность доступа к библиотеке босса, к той, которая находилась рядом со мной. При желании я могла даже читать на экране терминала его переплетенные бумажные книги, переворачивая страницы с клавиатуры и не извлекая их из азотной атмосферы.
В это утро я делала быстрый поиск в каталоге библиотеки Университета Тулана (одной из лучших в Республике Одинокой Звезды), желая найти историю Старого Виксберга, когда наткнулась на перекрестную ссылку на спектральные типы звезд и почувствовала, что попалась. Я не помню, почему там была такая ссылка, но они встречаются по самым невероятным причинам.
Я все еще читала об эволюции звезд, когда профессор Перри предложил пойти пообедать.
Мы пошли обедать, но сначала я сделала кое-какие заметки о тех разделах математики, которые хотела бы изучать. Астрофизика захватывающая вещь — но надо уметь говорить на этом языке.
В тот день я вернулась к Старому Виксбергу, но сноска отнесла меня к «Плавучему театру», музыкальной пьесе, написанной в это время — и я провела остаток дня, разыскивая и слушая бродвейские мюзиклы тех счастливых дней, когда Североамериканская Федерация еще не развалилась на части. Почему сейчас не пишут такую музыку? Те люди, должно быть, хорошо развлекались! Я-то уж точно — я прокрутила одну за другой «Плавучий театр», «Принц-студент» и «Моя прекрасная леди» и отметила еще десяток, чтобы прослушать позже. (И это называется учиться?)
На следующий день я решила ограничиться серьезным изучением профессиональных вопросов, в которых чувствовала слабость, потому что была уверена, что как только мои преподаватели (кем бы они ни были) составят мой учебный план, у меня совсем не останется времени для вещей, которые выберу сама — предшествующая подготовка в команде босса научила меня нуждаться в двадцатишестичасовых сутках. Но за завтраком Анна спросила меня:
— Фрайдэй, что ты можешь мне сказать о влиянии Людовика Одиннадцатого на французскую лирику?
Я сощурилась на нее. — Это что, викторина? Людовик Одиннадцатый звучит для меня, как сорт сыра. Единственное французское стихотворение, которое я могу припомнить — это «Мадемуазель из Арментьера». Если его можно так назвать.
— Профессор Перри сказал, что спрашивать надо именно у тебя.
— Он тебе морочит голову. — Когда я вошла в библиотеку, папа Перри поднял голову от консоли. Я сказала:
— Доброе утро. Анна сказала, что вы хотели, чтобы она спросила меня о влиянии Луи Одиннадцатого на французскую поэзию.
— Да, да, конечно. Не могла бы ты мне не мешать? Тут очень хитрая часть программы. — Он снова опустил голову и замкнулся в собственном мире.
Обиженная и раздраженная, я набрала на клавиатуре Луи XI. Через два часа я вышла подышать воздухом. Я ничего не узнала о поэзии — насколько я могла сказать, Король-паук никогда не рифмовал «ton con» с «c'est bon» или покровительствовал искусству. Но я многое узнала о политике пятнадцатого века. Сплошное насилие. На ее фоне те небольшие переделки, в которых я побывала, выглядели как детские ссоры в яслях.
Я провела остаток дня, запрашивая французскую лирику, начиная с 1450-го года. Местами она была неплоха. Французский подходит для лирики, больше, чем английский — чтобы из диссонансов английского постоянно выжимать красоту, нужен Эдгар Аллан По. Немецкий не годится для лиризма настолько, что переводы на слух приятнее немецких оригиналов. Это не вина Гете или Гейне, это дефект уродливого языка. Испанский так музыкален, что реклама стирального порошка на испанском звучит лучше лучших вольных стихов на английском. Испанский язык так прекрасен, что многое из испанской поэзии воспринимается лучше, если слушатель не понимает смысл.
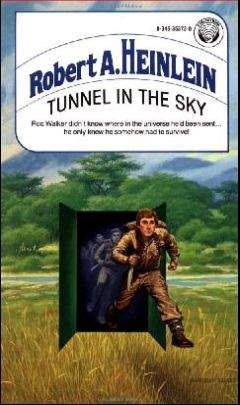

![Роберт Хайнлайн - Дверь в лето [с рисунками]](/uploads/posts/books/116820/116820.jpg)
![Роберт Хайнлайн - Дверь в лето [с рисунками]](/uploads/posts/books/117083/117083.jpg)