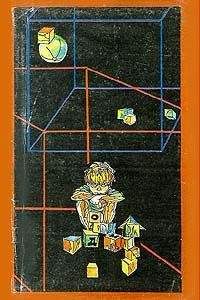Вячеслав Рыбаков - Очаг на башне. Фантастические романы
Он покивал.
– Скажи. Тот человек. Он не любит тебя?
– Мне неинтересно рассказывать.
– Я спрашиваю не из пустого любопытства. Это очень важно.
Она молчала. Но по ее лицу он понял. Он взял ее ладонь и поцеловал. Она позволила.
– Мне холодно, – с вызовом сказала она, позволяя.
– Ну, пойдем потихоньку, – предложил он. Они пошли потихоньку. Мимо монументального белоколонья Академии Наук, мимо облупленного салата Кунсткамеры.
– Я на пять минут. Надо поговорить, Ася.
– Неужели ты не понимаешь, Симагин, что мне больно и неприятно тебя видеть?
– Понимаю. Но это необходимо, я объясню. Только успокойся.
Она презрительно скривилась.
– Я спокойна. Это у тебя руки дрожат. Мадам твоя к тебе являлась?
– Нет, – ответил он, не сразу поняв. Разговор все время шел не туда. Он видел, что ее неприязнь нарастает, и это делало совсем бессмысленным его отчаянный подход.
– Странно. Я была уверена, что она должна как-то отметить годовщину своего апофеоза. Даже двух апофеозов, если мне не изменяет память. Уж не умерла ли родами?
– Ася. Ты сейчас любишь кого-нибудь?
– Я вас всех ненавижу, – сквозь зубы проговорила она. Это было то, что он надеялся услышать, и, видимо, она заметила тень непонятного ей удовлетворения, скользнувшую по его лицу, потому что остановилась – он остановился тоже – и, смерив его унижающим взглядом, добавила:
– Не беспокойся, спать мне есть с кем. А подштанники ему пусть жена стирает.
Она больна, одернул себя Симагин. Если бы он не знал этого прежде, то с очевидностью убедился бы теперь. В родном ему теле поселился другой человек. Но можно ли сказать о зарезанном, что он стал другим? Его просто зарезали. Пока не ускользнули минуты клинической смерти – надо лечить.
– Тебе было плохо со мной?
Ася неопределенно повела рукой.
– Дура была.
– Почему?
– По кочану, по капусте. Отстань от меня.
– Я хотел спросить, в чем это выражалось?
– Сидела в розовом сиропе и квакала.
– А как ты думаешь, Ася, Антону было...
– Антошка – мой сын! – крикнула она, сразу срываясь. – Мой! Ему хорошо!
– Да, я знаю. Ты чудесная, умная, заботливая мать. Разве я мог это забыть? Но с нами обоими ему было все-таки лучше. Или нет? Как ты думаешь?
– Я не дам тебе искалечить парня. Он мужчиной вырастет, а не пентюхом. Он только-только стал приходить в себя.
Он отрывисто рассмеялся и тут же оборвал себя.
– Прости.
– Не прощу. Иди смейся где-нибудь в другом месте. Хоть раз в жизни подумай обо мне.
– Я думаю о тебе.
– Ты обо мне не думаешь. Ты думаешь, как бы вернуть лестную игрушку. Ты ведь у нас ребенок. А если у ребенка отбирают игрушку – пусть даже не очень любимую, достаточно, что привычную, – он клянчит, на пузике ползает. Чтоб потом потешиться пять минут и на месяц кинуть в угол.
– Ты не хочешь, чтобы все вернулось?
– Упаси Бог. Опять караулить у окошка и трястись: то ли тебя автобусом переехало, то ли ты аспиранток портишь в творческой тиши лабораторий...
– Да, – сказал Симагин, – признаться, именно это я и думал услышать. Но все-таки мне кажется, что по... не по мне, не по нам, но хотя бы по себе ты тоскуешь. По той себе. Не отвечай. Послушай теперь ты меня еще чуть-чуть, только спокойно. Без ненависти, головой.
– Я совершенно спокойна. Если ты думаешь, что способен меня взволновать, – ты сильно обольщаешься на свой счет.
– Хорошо. Так вот. Сейчас это еще невозможно, во всяком случае, опасно. Придется подождать... ну, полгода. Я буду как вол пахать, ты меня знаешь. Я сделаю это абсолютно безопасным. Отфильтрую все, не относящееся к делу. Твоя личность, Ася... твое "я", которое, Ася, я очень люблю... – он глотнул, потому что горло опять грозило сжаться и не пропустить главные слова, – не пострадает. Не исказится ни на бит. Я обещаю.
– Что ты лопочешь?
– Я подсажу тебе свой спектр, и ты снова меня полюбишь. И мы снова будем счастливы, все трое. Трое, Ася!
В устремленных на него глазах серыми облаками заклубился мистический ужас.
– Ты... серьезно? – выдохнула Она.
– Абсолютно. Сегодня у нас двадцать третье октября. Обещаю уложиться, – он чуть улыбнулся, – к Восьмому марта. Праздник, как и в эту весну, мы встретим вместе. Ненависть и злоба улетят далеко-далеко, Ася. И мы с Антоном опять подарим тебе много цветов.
Она закусила губу и с ледяной ненавистью наотмашь ударила его по лицу. Сузившимися глазами проследила за реакцией. Его голова чуть мотнулась, веки дрогнули, и от боли в уголках глаз сразу проступили слезы. Тогда она ударила снова.
Набережная была полным-полна народу.
– Ты мне не ответила, Ася, – сказал Симагин.
– Послушай, – низко, хрипло сказала она. – Если я когда-нибудь почувствую, что ты становишься мне хоть вот настолько... интересен, – она показала кончик мизинца, – я сразу пойму, что ты сделал! И я перережу себе вены! – с угрозой выкрикнула она. – Запомни!
Резко повернувшись, она почти побежала. Он стоял. Она прошла шагов пять и будто налетела на стеклянную стену. Вернулась. Запрокинув голову, изо всех сил ударила его еще раз и снова бросилась прочь, и больше не возвращалась.
Она легко вскочила в автобус и на миг исчезла, потом появилась уже за стеклом. Симагин смотрел ей в лицо и ждал, что она хотя бы поднимет глаза, автобус никак не решался закрыть двери, словно тоже ждал чего-то, и Ася равнодушно ждала отправления, расплющенная толпой, – ведь теперь ее никто не прикрывал; наконец громада "Икаруса" утробно взревела, обдав Симагина черным перегаром, вписалась в поток плывущих по Дворцовому мосту машин и была видна очень долго.
Он брел по Менделеевской, загребая устилающие асфальт золотые листья. Мерз. Слепо вышел на мост Строителей. Вот и все, думал он. Вот и все. Вот и перевернулись мои вектора.
Это станет привычным. Я очерствею, оглохну. Перестану видеть, как сияет и зовет в сияние морской прибой. А если меня почему-либо полюбит женщина, я и этого не увижу...
Был вечер. Алый закат наполнял пространство. Симагину хотелось кричать. Он не чувствовал земли, словно катящийся ему под ноги огонь поднял его и нес в бережной кровавой руке. Вокруг были только безбрежный свет и гулкий огненный ветер. И Симагин влился в этот ветер, глядя, как исполинский рубиновый диск опадает в невообразимо далекую алую реку.
– Как легко, – пробормотал он. – Как высоко. Ветер стянул слова с лица, свирепо размотал их длинные клейкие нити и поволок в пустоту.
Созидающий башню сорвется,
Будет страшен стремительный лет,
И на дне мирового колодца
Он безумство свое проклянет.
И он взмыл в напряженно бьющийся, гудящий зенит.