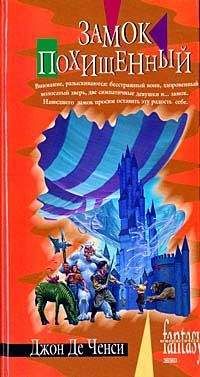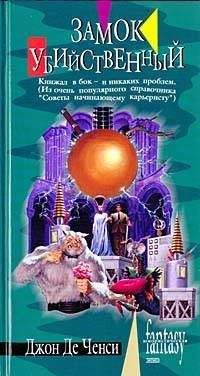Александр Казанцев - Купол надежды
— Я помню все, — сказал Анисимов как бы после раздумья.
— Все? Все? Честное слово?
— И даже последние ваши слова в ответ на безответственное предложение в бессознательном состоянии.
— Как вы можете так! Я все глаза проплакала, думая о вас.
— Значит, не забыли?
— Я? Никогда!
— Не люблю этого слова, В нем заложено отрицание. Куда лучше всегда.
— И я хочу всегда, всегда… с вами.
— Значит — не утешение умирающему?
— Нет! Это планы живущих!
— Это хорошо звучит. Наклонитесь ко мне. Вот так.
— Ой, Николай Алексеевич! Вы, значит, в самом деле поправляетесь! Я так счастлива!
— Что же мне тогда говорить? — ответил он ее словами, прозвучавшими когда-то при первой их встрече на фоне Эльбруса.
А о том, почему Аэлита оказалась на корабле, так и не было сказано ни слова.
И только когда Анисимов окончательно поправился и Танага заявил, что «чрезвычайно доволен его судьбой», Аэлита появилась в палате, смущенная и сама не своя.
— Ну что еще? — сидя на койке, с улыбкой спросил Анисимов, деланно хмуря брови и снова любуясь Аэлитой.
— Я должна признаться вам…
— Нет! Это я должен вам признаться, став на колено. Я уже могу, — и он сделал движение, но Аэлита удержала его:
— Вы шутите, а я серьезно. Вот, — и она протянула письмо.
— Что это?
— Письмо от партийного комитета вашего института.
— Как? Разве почта работает? Почему без марки? Доплатное?
— Да. Почта — через космос. И почтальон перед вами. Или, вернее, нарочный.
— Нарочный? Нарочная? — повторял Анисимов, вертя письмо. — Нарочная вы! Вот вы кто, родная моя.
Он разорвал конверт и пробежал письмо глазами. Он обладал завидным даром фотографического чтения, воспринимая весь текст сразу, не прочитывая его слово за словом, строка за строкой.
Академик нахмурился и вцепился рукой в бороду, зажал ее в кулак.
— Я не знал, что вы приедете, я бы сбрил, — вдруг непоследовательно сказал он, стараясь скрыть овладевший им гнев.
— Ну вот! Вы рассердились. Я так этого боялась.
— А вы думаете, я не должен был сердиться? Нонсенс!
— Нет. Я про себя. Вы могли на меня… Честное слово!
— Это за что же? — строго спросил Анисимов.
— За то, что я не просто к вам прилетела, как к дорогому мне человеку, а с поручением.
— Ну, знаете ли, девочка моя! Вы произнесли, как мне показалось в бреду, золотые слова Льва Толстого.
— Я могу их повторить: «Любить — значит жить жизнью того, кого любишь»!
— Так разве это не моя жизнь! — потряс письмом академик. — Ваш поступок для меня лучшее доказательство осуществимости моих несуразных мечтаний.
— Да? — робко прошептала Аэлита.
— Можно понять юных влюбленных, готовых на все, чтобы свидеться. Но насколько ценнее, значительнее готовность подняться хоть к звездам, чтобы защитить дело близкого человека. Я не ошибся?
— Нет, Николай Алексеевич, нет, милый, не ошиблись! Нет у меня никого ближе вас.
Они сидели друг против друга и зачем-то передавали из рук в руки письмо из Москвы.
Глава восьмая. ПОВЫШЕНИЕ
Дама-референт, сидевшая в приемной директора института, позвонила в партком Нине Ивановне Окуневой и передала, что профессор Ревич просит, если у нее нет более важных дел, заглянуть в кабинет директора.
Нина Ивановна давно ждала этого разговора, от которого Ревич под всякими предлогами уклонялся. После радиограммы Аэлиты из Антарктиды о случившемся там несчастье она не могла найти себе места, мысленно упрекая себя за бездеятельность, за то, что не использует прав партийного руководителя, не оправдывает занимаемого ею поста. Теперь сам Ревич приглашает ее. И она выскажет ему все напрямик и заверит, что Анисимов, как бы далеко он ни находился, не останется равнодушным к его бесчинствам, к разгону сотрудников, закрытию лабораторий, изменению тематики института во имя схоластической чистой науки. Она признается ему, что они с заместителем директора в отсутствие Ревича отправили Аэлиту в Антарктику к Анисимову. Ее не вернуть!
Приняв таблетку успокоительного лекарства, Нина Ивановна решительным шагом направилась к директору.
Ревич торопливо вышел к ней из-за стола, очаровывая золотой улыбкой:
— Простите, что потревожил вас, товарищ комиссар. Но… главковерх требует. И нас обоих: начдива вместе с Фурмановым.
Нина Ивановна поморщилась.
— Я имею в виду президента Академии наук СССР, Нина Ивановна, — быстро переменил тон Ревич. — Машина ждет внизу.
«Если у вас нет более важных дел!» — с усмешкой вспомнила Нина Ивановна формулу приглашения. Какой чисто английский оборот речи!
— Нужны какие-нибудь материалы? — спросила она.
— Не думаю. Мне об этом неизвестно.
— Я готова, — сказала Нина Ивановна, пожалев, что так и не успела высказать Ревичу свое негодование. Но после приема у президента, а может быть, даже во время приема, она скажет все, что требует ее партийная совесть. Однако не в пути, не в машине.
Ехали до Академии наук молча.
Ревич ежился. Он затылком чувствовал недоброе настроение секретаря парткома, но, сидя впереди, рядом с шофером, не оборачивался. И это было символичным. Ревич уже не оглядывался, идя намеченным путем. Он возлагал на встречу с президентом большие надежды и давно добивался приема. Неприятной помехой было лишь приглашение секретаря парткома, у которой ни докторского, ни профессорского звания нет. Рядовой кандидат наук!
А то, что Ревич как ученый всем был обязан Нине Ивановне, создавшей лабораторию «вкуса и запаха», которую теперь он передавал на завод, Ревич из памяти вычеркнул.
Автомобиль свернул между двумя многоэтажными зданиями и оказался перед каменными столбами ворот Академии наук. Старомодный особняк с колоннами стоял в глубине на фоне деревьев Нескучного сада, спускавшегося круто к невидимой отсюда реке.
Президент Академии наук обладал редким тактом: принимая у себя ученых, он умел превращать прием в свидание равных коллег.
Так и сейчас, когда Ревич и Окунева вошли в его небольшой, отделанный дубом кабинет (для заседаний существовал конференц-зал, где собирался президиум академии), он радушно вышел из-за стола, поцеловал Нине Ивановне руку и обменялся крепким рукопожатием с Ревичем, которого уважал как одаренного ученого.
— Я прошу извинить меня, Геннадий Александрович, за то, что встреча наша все откладывалась. Мне даже хотелось самому приехать к вам, если бы это не выглядело инспекционной поездкой.
— Что вы! Что вы! Вы были бы желанным гостем, — расшаркался Ревич.
Все уселись. Ревич старался угадать в манере обращения с ним президента признание своей правоты в перестройке института. Не зря же он пригласил сюда и Окуневу. Надо думать «для вразумления».