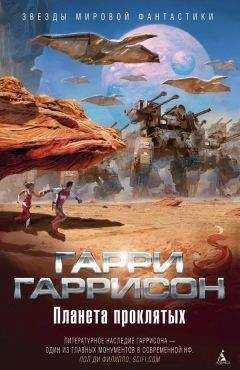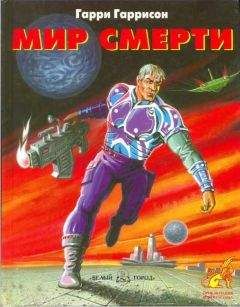Станислав Лем - Астронавты
До сих пор я смотрел на север, в сторону перевала. Повернувшись к югу, я увидел пепельный, мигающий отблеск. Сначала я подумал, что это мне показалось, но потом мне удалось различить вершины гор на сером, неясном фоне. Там был какой-то свет, но настолько слабый, что, поглядев на него какое-то время, я стал сомневаться, действительно ли вижу что-нибудь. Пришлось закрыть глаза. А когда я снова открыл их, то убедился, что это не ошибка, что там действительно тлеет какой-то очень слабый, но все же настоящий свет.
Я вернулся внутрь ракеты, оставил скафандр в шлюзовой и спустился в нижний коридор. Красного света над кабиной «Маракса» уже не было. Я приоткрыл дверь. Возле пульта, похожего очертаниями на колокол, стояли подвезенные на тележке аппараты. Это были каскадные усилители и обыкновенный громкоговоритель. В кабине находилось четверо ученых. Физик, согнувшись, сидел у аппарата; астроном сидел несколько поодаль, спиной ко мне, в такой позе, словно рассматривал что-то в темноте между приоткрытыми изолирующими стенками «Маракса». Чандрасекар стоял в углу. Рядом с ним, закрыв руками лицо, облокотился на трубы конструкции Райнер.
Все молчали. Тишина эта показалась мне такой странной, что я не решался нарушить ее. Лао Цзу первый заметил меня и пошевельнулся; Арсеньев поднял голову и, мигая, словно ослепленный, спросил:
— Это вы?
Я все еще стоял в дверях.
— Войдите, — сказал Арсеньев.
Мне показалось; что китаец смотрит на меня как-то особенно, но это был только отблеск света в его очках.
— Вам удалось?.. Вы что-то открыли? Что? — спросил я.
Лао Цзу покачал головой.
— Нет, но… профессор Чандрасекар сделал один опыт… один эксперимент, который дал… странные результаты.
Он произнес это так тихо, что по телу у меня пробежали мурашки.
— Что это значит?
— Можно еще раз? — спросил китаец. Никто не ответил. Тогда он повернул ручку усилителя на тележке. Раздался глухой шум, потрескивание, потом неприятный, резко снижающийся свист. И вдруг из рупора полилась мелодия — мрачная, напряженная, стремительная и полная смятения. Она не вызывала ужаса, ибо сама была ужасом; он был в ней, как в огромных скелетах юрских ящеров, застывших в чудовищных судорогах, когда их залил поток расплавленной лавы и навеки оставил в позе, полной несказанных мук и страха. Эта мелодия была как огромные кости, которые, перестав быть позвонками и ребрами, уже не принадлежат живому существу, но еще не превратились в известковую скалу, не стали частью мертвого мира. Как они, она была страшна, отвратительна и в то же время близка, ибо чем-то вызывала вдруг почти человеческие чувства. Я хотел крикнуть: «Довольно, довольно, остановите!» — но не мог раскрыть рта и слушал, пораженный, словно мне довелось через стекло в оцепенении наблюдать за конвульсиями обитателя бездны, странного и непонятного чудовища, о котором я не знаю ничего, кроме того, что оно умирает.
Нестройный хор еще раз прогремел и утих. Теперь слышалось только равномерное шуршанье токов.
Я молчал. Молчали и все. Только где-то внизу слышался легкий шорох работающего механизма. Я долго не решался, но все же спросил:
— Что это было?
— Так звучит кристалл… одного из этих приборчиков… — произнес Чандрасекар и, подойдя к аппарату, вынул из держателей металлический кусочек. — Мне пришла мысль превратить электрические колебания в звуковые. Мы совершенно не знаем, таково ли действительно предназначение этого странного прибора… То, что в переводе на звук колебания прозвучали как музыка, — это может быть чистой случайностью…
— А другие? — спросил я, указывая на рассыпанные серебряные зернышки.
— Ничего, хаос звуков, раздирающий уши, — ответил математик. — Я сам не знаю, почему это сделал, — прибавил он, помолчав. — Не думаю, чтобы это была музыка, чтобы они тоже…
— Что с тобой, Лао? — спросил Арсеньев. Физик встал и поднял голову с таким выражением, словно вглядывался в отдаленный свет. Он не слышал вопроса Арсеньева и, медленно наклонив голову, несколько раз коснулся пальцами стеклянной доски аппарата, словно поглаживая ее. Потом обратился к Райнеру:
— Доктор… давно ли, по-вашему, существует на берегу эта железная глыба? Вы делали анализы…
— Да, делал еще перед нашим злосчастным полетом. Принимая во внимание низкий процент кислорода в воздухе… хотя, с другой стороны, присутствие воды должно действовать каталитически… я думаю, что железо существует в такой форме лет сто пятьдесят… ну, скажем, даже сто шестьдесят.
— А может быть… девяносто?
— Едва ли. Разве если температура была гораздо выше. А о чем вы думаете, профессор?
— Если температура была гораздо выше… — повторил китаец очень медленно и снова сел.
— Вы думаете… — обратился к нему Райнер, но Арсеньев жестом остановил его.
— Не мешайте ему. Он сейчас нас не слышит.
Эта история произвела на меня такое сильное впечатление, что я забыл о далеком отсвете, который видел во мраке, когда стоял на палубе. Наутро и в последующие дни небо мерцало тихими электрическими разрядами, и далекого отблеска уже не было видно.
БОЛЬШОЕ ПЯТНО
Шестнадцать дней продолжались исследования высоких слоев атмосферы. Говорю «дней», ибо хотя долина и была наполнена мраком, наши организмы сохраняли двадцатичетырехчасовой ритм сна и бодрствования. Вместе с физиками я устанавливал на палубе ракеты радарные приборы и ультрафиолетовые прожекторы. Мы выпустили также несколько шаров-зондов, записывающих напряжение ионизации, а помещенные в них передатчики сообщали нам результаты измерений. Райнер возился в лаборатории, делая анализы минералов, собранных в Мертвом Лесу. Чандрасекар сидел в кабине «Маракса», поглощенный какими-то сложными вычислениями. Я с нетерпением ожидал рассвета, до которого были отложены наиболее важные работы. Погода все время стояла морозная, лед расстилался на озере удивительно гладкой поверхностью. Этому способствовал полнейший покой. В темноте среди туч мерцали беглые отсветы, напоминая пробивавшееся сквозь тучу полярное сияние. На двадцатые сутки над долиной прошла мощная электрическая буря. Лед скрипел и трескался, подпираемый волнами, стенки ракеты дрожали, крупный град стучал по бортам и палубе, но внутрь ракеты не проникало ни малейшее содрогание воздуха. На следующий день все утихло, и при уменьшившемся морозе — ртуть в термометре поднялась до минус четырех — барометр начал падать. Приближался рассвет, а с ним новая сильная буря. Арсеньев дал распоряжение взлететь. Когда мы в последний раз стояли на палубе ракеты, небо наливалось тяжелым свинцовым серым светом. Тусклый отблеск лег на льдины, сковавшие озеро. Потом шлюзы закрылись, и загудели двигатели. Лед трескался с оглушительным грохотом, распадался на куски, высоко взлетая над носом «Космократора». Корабль взметнул воду и, оставив за собою белую бурлящую полосу, круто поднялся в воздух. Из мрака, разорванного пламенем выхлопов, вынырнули призрачные силуэты гор и полные синих теней пропасти. Мы поднимались по винтовой линии все выше сквозь толстые слои облаков. И вдруг все стоявшие в Централи закрыли лица руками: в телевизорах запылал раскаленный белый диск, низко нырявший в тучах. Летя на восток, мы встретили солнце на несколько часов раньше, чем оно взошло над долиной.