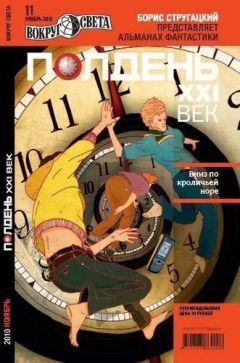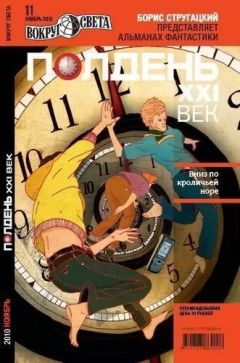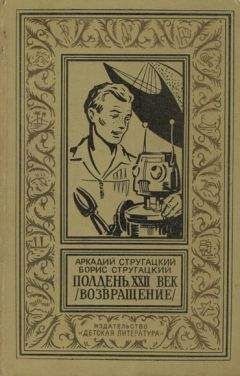Валерий Брюсов - Полдень, XIX век
— Сеата! — с полным отчаянием воскликнул я. — Разве для меня будет жизнь без тебя?! Ради меня, ради души моей, не уходи, будь со мной, останься.
В слезах я целовал ее холодеющие пальцы, она уже не могла говорить, и только тихая улыбка сохранилась на ее побледневших устах. Потом она устремила взор к завечеревшему небу, и душа ее отлетела из мира земли, которым она так тяготилась при жизни.
В тот же час, как Сеата умерла, я вдруг понял всю безмерность своей любви к ней. Мне сразу как в блеске молнии представились два существа — я до этой любви и я, воскрешенный любовью. И я понял, что это два разных человека. Я рыдал, как [осужденный], я хотел бы воскресить ее хоть на время, на одно мгновение, чтобы досказать ей все, что не успел выразить при жизни. В бешенстве я проклинал себя за потерянные дни и часы, в которые можно было передать так много!
Мысль об ужасном будущем пронеслась в моей голове. С дикой решимостью я схватил дорогое мне тело, прикоснулся к нему последним поцелуем и медленно опустил его за борт. Я произнес несколько молитвенных слов над этим местом, не обозначенным никаким памятником. Потом сильным ударом весла я удалился оттуда.
Почти тотчас раскаянье овладело мной, во мне воскресло страстное желание видеть ее, целовать ее хотя бы и безжизненные руки, говорить с ней. Я начал грести назад, среди мрака наступившей ночи я искал ее тело, я без устали работал веслами, плыл взад и вперед, тщетно всматриваясь в почерневшую воду. Но мне не суждено было найти дорогой могилы.
Взошло солнце, и я увидел себя все за теми же безумными поисками. Я не знал, куда уплыл я, долго ли блуждаю. Тогда в порыве нового отчаяния я отбросил весла прочь от себя в эту спокойную безответную воду и распростерся на дне челнока, на том самом месте, где лежала Сеата, целовал те доски, к которым она прикасалась. Неожиданно возникший ветер развевал мои волосы, но я не обращал на него внимания. Мне было все равно, куда влечется моя ладья. -
Так прошел день, и настала новая ночь, и краски новой зари проглянули, прогорели и погасли [на востоке]. Я смутно понимал течение времени. Я был снова во власти бреда и диких грез, то отвратительно-мучительных, то несказанно блаженных, потому что в них мне являлась снова моя царевна Сеата. И весь мир был не нужен мне.
ЗАКЛЮЧЕНИЕГрубое морщинистое лицо старухи негритянки и ее иссохшие руки — вот было первое, что я увидел, когда очнулся. Челнок мой прижало ветром к краю озера, образовавшегося на месте Проклятой пустыни, и выбросило на траву. Меня подобрало кочевавшее здесь племя бечуанов. Обо мне заботились и, как умели, лечили. Много дней пролежал я в горячке и, очнувшись, был так слаб, что не мог шевелиться. Добрые бечуаны кормили меня сушеным мясом и поили водой из скорлупки страусовых яиц. Только через две недели встал я на ноги и лишь через месяц мог выйти за пределы деревни.
Первую свою прогулку я совершил по направлению к Горе Звезды. Вновь образовавшееся озеро уже отхлынуло, и на месте прежней каменистой степи простиралась равнина, покрытая илом, кое-где начинавшая порастать первым мохом и робкой травой. Ясно было, что впоследствии здесь образуется степь и появится жизнь. Пальмы вырастут над могилой Сеаты. Напрягая зрение, я всматривался вдаль, но силуэт конусообразной Горы уже не рисовался на фоне ясного утреннего неба.
С трудом оторвав глаза от дали, повернул я к ближнему леску. Трава шелестела под моими ногами, попугаи испуганно перескакивали с ветки на ветку. Мне вздумалось испробовать, изменила ли мне рука. Со мной был бечуанский лук, которым прежде я свободно владел. Прицелившись, я спустил тетиву, стрела простонала, и попугай, как бывало, повалился с ветки на берег ручья. С несчастной улыбкой пошел я за бесполезно убитой птицей. Да! Немногое изменилось во мне, только сердце стало живым и страдающим.
Я нагнулся, чтобы поднять попугая, и увидел свое отражение в зеркале ручья. Длинные волосы по-прежнему смело падали мне на лоб, на шею, но они сверкали, как серебро. На меня из ручья смотрело лицо еще молодого человека, но с уже совершенно седой головой.
Еще печальнее улыбнулся я. Прошлая жизнь была погребена под этим снегом, а в новую я не верил. Подняв убитого попугая, я побрел в крааль друзей моих бечуанов. Больше мне некуда было идти.
Фаддей Булгарин
ПРЕДОК И ПОТОМКИ
Гроза на съезжем дворе. Писарь Михеич. Добыча
Один из частных приставов санкт-петербургской полиции, получив выговор от обер-полициймейстера и узнав в управе благочиния, что три дела, представленные им в сиё присутственное место, решены иначе, нежели он надеялся, возвратился домой в величайшем гневе. Несколько дворников, обвиненных квартальными надзирателями в неисправности, были первыми жертвами гнева частного пристава; потом несколько несчастных пьяниц, поднятых ночью на улицах, подверглись той же участи, и поделом. Собравшиеся в канцелярии квартальные надзиратели и писцы предчувствовали для себя худые последствия от гнева начальника и с трепетом слышали, в отдалении, грозные его речи; а некоторые просители заблагорассудили возвратиться домой и выждать благоприятнейшее время для объяснения своих дел. Наконец частный пристав взбежал, запыхавшись, на лестницу, толкнул ногою дверь в канцелярию, бросил шинель на стол, прикрыв ею трепещущего писца и его бумаги, и скорыми шагами пошел в свои комнаты. Супруга его, получив новый чепец в подарок от модной торговки, недавно переехавшей в часть, выбежала к мужу, чтоб обрадовать его обновкой, которая была ей весьма к лицу, по уверению кухарки, но увидев, что супруг ее весь был в поту и бросал вокруг себя огненные взоры, она побежала назад.
— Куда, сударыня! — воскликнул грозно частный пристав. — Подай водки! — И с сими словами снял шпагу, бросил шляпу и растянулся на канапе, бормоча: — Постой же, я им дам! Я их проучу! Черт их всех побери! Вымещу я на других! Никому ни копейки более!
Между тем жена внесла графин с настойкою густого темно-коричневого цвета, рюмку величиной в полчетверти и несколько тонких ломтиков черного хлеба, крепко натертых солью. Частный пристав влил в горло три рюмки водки, одну за другою, закусил, прошелся несколько раз по комнате и грозно завопил:
— Гей, кто там! трубку!
Тотчас явился сын его, мальчик лет четырнадцати, который воспитывался дома, под надзором нежных родителей, учился грамоте у главного частного писаря, а светскому общению и ловкости у надзирателей, бравших его с собою в театры, в трактиры и в другие публичные заведения. Главная обязанность сынка состояла в том, чтоб набивать рубку папеньки и ходить к главным жителям части с изустными его поручениями. Сынок, в изодранном нанковом сюртуке, без галстука, предстал с большою деревянного грубкой, которую сам раскуривал, и подал ее отцу. Но отец грозно посмотрел на сына и, схватив за всклоченные волосы, вытолкнул его за двери, промолвив: