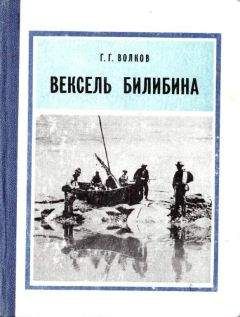Юрий Шушкевич - "Вексель Судьбы" (книга первая)
-- Что-то тебя в сторону увело, -- посетовал я, изображая циничное равнодушие к его эмоциональному порыву. -- Давай-ка лучше о деньгах. Сколько, по-твоему, может стоить этот фонд?
-- По номиналу где-то двести пятьдесят миллионов золотых франков или сорок-пятьдесят миллионов долларов. Но эти суммы ни о чём не говорят. Реальная стоимость фонда выше в десятки, а то и в сотни раз, Если её вообще возможно оценить -- ведь лежащие там бумажки уже сегодня позволяют властвовать едва ли над половиной мира, а скоро -- и над всем миром.
-- А как такое может быть? Ты не ошибаешься?
-- Возможно, но только ошибки, боюсь, здесь могут быть лишь в меньшую сторону. Ведь учреждение фонда удивительно совпало с грандиозным финансовым ростом. Скромные на первый взгляд бумаги, которые были положены в фонд, сегодня представлены, насколько я помню, акциями Banque de France, Банка Англии, крупнейших колониальных банков, знаменитого Городского банка Нью-Йорка, обществ вроде "Кун и Лёб" -- всего не пересказать. От них тянутся нити к тысячам и миллионам других банков и компаний. Если правильно распутывать этот клубок, то ниточки приведут к таким тузам, как Гугенхаймы, Дюпоны, Морганы, Ротшильды... Конечно, я не имею в виду, что теперь к ним ко всем можно вламываться в особняки и, потрясая векселями, диктовать свою волю. Но вот грамотно воздействовать на решения финансовых воротил -- это вполне реально.
-- Может быть. Только боюсь, что когда ты придёшь к Ротшильду, то он не согласится с твоими доводами и объяснит, что заработал свои капиталы значительно раньше всей нашей истории.
-- Не волнуйся, все они отлично знают, что раньше они успели заработать лишь мизерную часть своего состояния! Невиданный никогда прежде мировой финансовый рост начался в конце XIX века -- как раз, когда во Францию вернулись тамплиерские сундуки. Как иначе объяснить, что эта страна из аграрной, с несовершенной и безнадёжно устаревшей промышленностью -- которая, кстати, даже накануне войны нынешней так и не смогла приблизиться к германской, -- вдруг в одночасье сделалась мировой финансовой державой? А следом за ней -- никому не известная Америка? Так что все, все, кто схожим образом фантастически обогатился за последние полвека, должны быть благодарны этим сундукам...
-- Ты хочешь, чтобы я тоже воспылал благодарностью? Увы, привилегия фантастического обогащения меня не посетила.
-- Я о другом, -- с прежней серьёзностью продолжал Тропецкий, не распознав издёвки. -- Вот ты не голодаешь и имеешь над головой кров -- а разве это всё, чего ты достоин? Ты расшаркиваешься перед любым гестаповцем, ты боишься немецкого начальства, ты не знаешь будущего, а почему? Потому, что у тебя, у человека отнюдь не бедного, нет власти. Деньги сами по себе обеспечивают лишь жалкую иллюзию власти, но не власть как таковую. Власть дают только очень, очень большие деньги. И именно такие деньги сегодня, не смейся, имеются у меня.
Сказать, что рассказ Тропецкого заинтересовал меня и взбудоражил -- ничего не сказать. Внутри меня одновременно вскипали и боролись между собой целых три чувства -- недоверия, которое проистекало не столько от услышанного, сколько от моей не очень-то большой к Тропецкому привязанности, а также чувство восторга и чувство зависти. Ведь если сообщённое им хотя бы даже на один процент являлось правдой, то возникал законный вопрос -- почему подобное сокровище не попало в распоряжение государственных организаций, причём неважно -- советских или иностранных, или почему оно не в руках более достойных людей.
И поскольку слушать панегирики золотому тельцу мне больше не хотелось, то я решил изменить направление разговора и попросил Тропецкого рассказать, каким образом фонд Второва, будучи столь тщательно скрытым от постороннего ведения, вдруг оказался у него в руках.
-- Милый Платон, -- ответил он на этот мой вопрос, чётко и повелительно выговаривая каждое слово. -- Есть вещи, о которых не узнает никто и о которых я сам при первой же возможности постараюсь забыть. Жизнь, как и политика с революциями и гражданскими войнами, не делается в лайковых перчатках. И ещё, не забывай: в том хаосе всё это могло пропасть и сгинуть навсегда, и лучше от подобного, поверь, не стало бы никому.
В тот момент я не на шутку испугался прямоты своего последнего вопроса и того, что Тропецкий может отвернуться и замолчать. А мне, каюсь, начало чертовски хотеться услышать, что же эдакое он задумал и какого рода участие намерен мне предложить.
-- Не обижайся, я просто должен был задать тебе этот вопрос, -- поспешил я исправить положение. -- Наше старое воспитание, сам понимаешь, -- это заноза надолго. Сентенции о мировой гармонии и слезе ребёнка прочно засели в башке.
-- А я и не обижаюсь. Ты философствуешь так, потому что ты революцию пережил с минимумом потерь -- пересидел смуту в Москве, а в двадцать первом с разрешения ВЧК укатил заграницу в международном вагоне... А вот я, Платон, почти три года по фронтам грязью и кровью умывался. Я убедился, что святая в нашем прежнем понимании человеческая жизнь отныне не стоит и копейки. И не просто там из-за войны или душевного помутнения у человеков, а оттого, что в её воспевании и сбережении нет ни малейшего смысла. Согласен, в прежние времена существовал смысл проявлять человеколюбие -- хотя бы в расчёте на встречное благородство. Теперь же благородства в мире нет и более не предвидится. Да, я ныне не скрываю, что заплатил золотом, чтобы спастись и уплыть из Новороссийска и что вполне сознательно оставил свой калмыцкий полк погибать под комиссарскими шашками. И мне не капельки за этот поступок не стыдно, потому что либо другие поступили бы со мной аналогичным образом, либо сгинули бы мы все. В нашей теперешней жизни жалости и сострадания быть не должно. Тот, у кого сила, берёт и будет брать верх -- и горе побеждённым, vae victis, как совершенно справедливо уразумели древние. Уразуметь-то уразумели, а реализовать до конца не смогли, поскольку у них не оказалось настоящей силы, не было той железной и безразличной ко всему мощи, которая имеется у людей сейчас. Оттого и сдулась в одночасье великая Римская империя, когда один фантазёр начал учить, что получив по щеке, надо-де подставить другую... Хотя если бы проявил Рим тогда твёрдость -- стоял бы и по сей день, и железа бы у него достало, чтобы держать за горло целый мир! А сегодня совсем не железо нужно, Платон. Подлинная сила сегодня -- уже мечи, не пулемёты или линкоры, а великие и бесконечные деньги. Когда деньги в мире ограничивались небольшими запасом золота, люди наивно полагали, что благородство и сострадание способны обуздать наживу. Никто не понимал и всё ещё не понимает до конца всей страшной, необузданной силы денег! А сила эта в том состоит, что при всякой сделке тот, у кого денег больше, всегда имеет больше прав, чем тот, кто должен производить и продавать, чтоб не сдохнуть с голоду. Ведь покупатель всегда диктует продавцу свою волю. В прежнем патриархальном мире, где люди работали в основном на себя, а сделки были редки, этот неизбежный обман со стороны тех, кто платит, уравновешивался всевозможными податями и покаяниями. Но времена меняются, сделки происходят с нарастающей быстротой, торгуются теперь не только товары, но и права, обязательства, честь, перепродаётся само будущее людей! А ныне прикинь -- сегодня тот, кто способен создавать бесконечность денег, рано или поздно приобретёт и весь мир! И очень скоро в этом нашем с тобой мире не останется ничего, кроме неограниченной и бесконтрольной воли сильнейших!