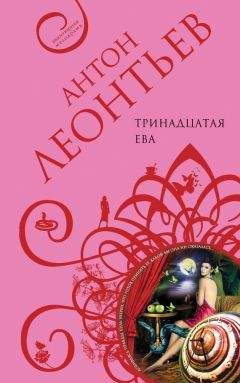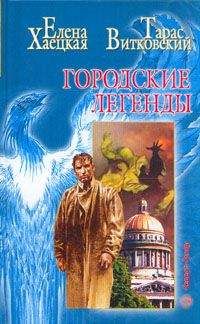Михаил Белозеров - Железные паруса
Должно быть, он действительно вспомнил свою семью, быть может, Маку и на какое-то мгновение забыл, о чем говорил.
— Ну? — подтолкнул Он его, с недоумением рассматривая кусочек черного янтаря. Он представил себя со стороны — глупо Он выглядел, поверив россказням. — Какой вспышки? — спросил Он.
— До тех пор, пока не встретишь самого себя. — И на его удивленный взгляд добавил. — Это почти то же самое, что обнуление пространства, вспышка, просто вспышка элементарных частиц… ведь не бывает двух ретроспекций.
Он не нашел больше слов. Все было лишним. Они поняли друг друга. Наверное, цисфинит, действительно, был самым дорогим подарком.
— В общем… — Андреа все еще был в прошлом, — в общем, проще говоря, я нашел, как просчитывать все предыстории событий, которые ты сам будешь заказывать силой желания в сложившихся обстоятельствах… научился всему, кроме изменения прошлого. Это и есть самое мучительное — невозможность остаться в нем.
— Спасибо, — поблагодарил Он, из вежливости опуская треугольный цисфинит в карман. Вряд ли он ему пригодится, ведь никто не может предвидеть будущее. Это выходило за рамки повседневного опыта. Его жизнь в последние годы была ясной и понятной, какой она бывает, когда с человеком ничего не происходит, а время в сознании отражено последовательно.
— Рано или поздно все истории кончаются, — заверил его Андреа. — Попадая в прошлое, мне приходилось избегать самого себя. Мне нравилась такая жизнь, пока я был молодым.
Он не знал, что ответить, преклоняясь перед его старостью, его знаниями, его убежденностью. Он заставил-таки уважать себя.
— Я хотел у тебя узнать… — вдруг неожиданно для себя начал Он. — Если ты все знаешь…
Андреа вскинул на него глаза. Глаза человека, который стоял уже одной ногой в могиле, но не выказывал слабостей.
— Я хотел у тебя узнать… — повторил Он и выдал себя с головой, свою неуверенность, свою браваду, — что ты думаешь обо всем этом? — Он невольно воздел руки к потолку хижины, подумав о пространстве вокруг, о небе, о застывшей тайге и обо всех тех городах, что лежали на юге и севере.
— Х-х-х! — легкомысленно, но с удовольствием хмыкнул Андреа. — И это спрашивает человек, переживший человечество.
— И все же?
Ему было стыдно. Ему действительно было стыдно, словно вопрос оказался глупым.
Но Андреа даже не дослушал его.
— Я думаю, что ты лишишься бессмертия, и с удовольствием пошел бы с тобой, чтобы посмотреть, какая она, эта новая жизнь. Но я болен и стар. Великой Тайны, о которой ты спрашиваешь, нет. Бессмысленно искать ее в том, что само по себе бессмысленно. Ты что-то узнаешь, и это становится нормой. Потом ты снова что-то узнаешь… Жизнь такова — какая она есть. Впрочем, мы сами ее такой делаем. Восхваляем, провозглашаем догмы и городим теории… Сам увидишь: чем дольше бедствие, тем люди лучше понимают, что Бога надо бояться. Не рискуй напрасно. Завтра похоронишь меня на мысу. Смерть не страшна, — продолжал он. — Если ты суетишься, ты увидишь демонов, если спокоен, — ангелов. Я увижу ангелов.
И радостно усмехнулся.
2
На вывеске было написано: «Дрынк», но говорили по-русски.
Проковылял человек. На спине красовалась изречение: "Лягните меня, я толстый!" Странный человек — вовсе не толстый, а просто какой-то неуклюжий, прямоугольный: "пять на пять и десять", в лапсердаке с длинными фалдами. Он даже сразу не разглядел, а затем понял — со ступнями, карикатурно вывернутыми наружу и в ботинках, как у Чарли Чаплина. Собственно, из-за этих ботинок на всякий случай Он и не стал его окликать, а вошел следом.
Гремела музыка — какая-то смесь Кренкенса и Тоя Вилкенса. На подиуме — брэйк, переходящий в линтон — сплошные «куклы» и верчение на голове. Толстяк уже пил, и в воздухе стоял крепкий, как дурман, запах пива.
— С собакой нельзя! — заявил бармен, но, чуть помедлив, потянулся за кружкой и, не сходя с места, налил светлого пива с шапкой пены.
Его смутило две вещи: не надо было платить и третий глаз во лбу у бармена — маленький, слезящийся, без ресниц и век, смотрящий, только вперед, как сигнал светофора. Сбылась мечта эзотериков, подумал Он, разглядывая публику. За могучей спиной Чарли Чаплина мелькали дико раскрашенные: «синие» и «зеленые» с белыми камуфляжными полосами на лицах и руках, и просто лица — азиатские и европейские — испито-желтые, но до странности похожие друг на друга, как две капли воды. Среди других надписей над стойкой одна призывала: "Пей — даже натощак!" Потом из множества рук, сжимающих бокалы, признал одну — четырехпалую, чешуйчатую, с присосками. И только чуть наклонился, чтобы разглядеть ее обладателя, как верный друг упредил его. Даже не упредил, а просто Он среагировал на метнувшуюся тень: двое чешуйчатых, поменьше габаритами, "три на три и на шесть", моргая, как курицы нижним веком, стояли в дверях, и один из них с направленным на него стволом диаметром не меньше кофейной чашки; Африканец сбил прицел, вцепившись в руку, а сам Он успел уклониться. Так что сеть, вылетевшая из ружья, облепила Чарли Чаплина, а Он, верный своей реакции, одновременно с прыжком метнул в голову стрелявшего тяжелый бокал и в следующий момент в шуме и грохоте опрокидываемых стоек, толкнул его плечом, пробивая дорогу к выходу. Толкнул со всей силы, но оказалось, — до удивления легко, несмотря на их габариты. Сбил обоих, как кегли, бросился к выходу, чувствуя, как они летят в разные углы бара. И пришел в себя, когда с Африканцем уже бежал, не оборачиваясь, зигзагами по упругой подушке листьев вдоль Обводного, туда, откуда они пришли — к мосту, и даже успел подумать, что, наверное, через мост опасно — слишком открытое было место, и еще — что их предал бармен.
На углу Атаманской их ждали. Первая пуля разбила окно в доме на противоположной стороне улицы. Вторая прожужжала ниже, так что Он невольно пригнулся и по сохранившейся с военных времен привычке уходить с линии огня, отскочил в сторону. Прежде чем прожужжала третья пуля, прыгнул за угол дома — у него совершенно не было желания проверять свое бессмертие, и был таков.
Он что есть силы бежал к парку с единственной мыслью, что у чешуйчатых нет автомобиля и еще, пожалуй, с надеждой, что такие брутальные создания не могут быстро бегать. И действительно, едва ему удалось перевести дыхание под толстыми развесистыми липами (Африканец бросился поливать кусты), как чешуйчатые появились со стороны Финляндского моста, но бежали, если трусцу можно было назвать бегом, нелепо, цугом, в нарушение всех уставов. Он вскинул карабин, вздохнул два раза, в просвете деревьев поймал на мушку первого и выстрелил. Не прослеживая, упал тот или нет, тут же выстрелил еще раз и еще три раза, каждый раз целясь в широкую шею чешуйчатого. И наступила тишина. Погони больше не было. Тих и печален был город, тихо и неизменно текла Нева. Было слышно, как где-то дрались и каркали вороны. Теперь Он был готов к неожиданностям. Он даже усмехнулся от гордости за самого себя. Дудки, твердил Он себе под нос, дудки… домой, только домой… на родную лежанку. Пусть «они» сами разбираются. Его больше не интересовала ни Великая Тайна, ни странные люди, прилетевшие на ракетах. Если они даже что-то и знают, это меня не касается, думал Он. Не касается! И еще Он подумал, Андреа ошибся, — не нужен Он человечеству. Не нужен!