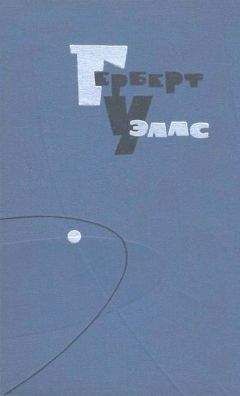Герберт Уэллс - Мистер Блетсуорси на острове Рэмполь
Оба мы вздрогнули, когда где-то поблизости разорвался снаряд. И некоторое время сидели притихнув и скорчившись, словно он еще мог настичь нас.
— Я помогу тебе выбраться отсюда, когда стемнеет, — пообещал он, когда я показал ему свои раны.
Он, видимо, обрадовался предлогу остаться в яме и не возвращаться в бой. Рассуждая теоретически, он еще обязан был наступать. Он отнесся ко мне по-братски и довольно ловко перевязал перебитую ногу. Но всю эту ночь немцы так ревностно прощупывали «ничейную зону» прожекторами и так жарили из пулеметов, что мы не решились выйти из прикрытия. Товарищ мой сунулся было наружу, но тотчас же вернулся назад.
Мы сильно страдали от жажды. Я вылил добрую половину воды из своей фляжки на губы умирающего солдата, который теперь лежал рядом со мной, холодный и окоченелый. Живой же мой товарищ все собирался снять фляжку с водой с кого-нибудь из убитых, лежавших наверху, но не решался вылезти из ямы.
На следующую ночь стрельба затихла, и мы с трудом выползли из ямы и кое-как добрались до окопа, откуда началась атака. Обе мои ноги не действовали, и когда я попробовал согнуть ту, которая не была перебита, из нее пошла кровь. Поэтому я полз на руках, и всякий раз, как вспыхивал прожектор, замирал на месте и притворялся мертвым, боясь, как бы меня не заметил какой-нибудь зоркий немецкий снайпер или пулеметчик. Товарищ мой пробирался рядом со мною, но от него было мало толку, разве что подбадривало сознание близости человеческого существа.
Мы совершенно случайно попали в свой окоп. Я свалился туда головой вперед, и меня чуть было не прикололи штыком, приняв за немца. Там нашлась вода, и мне оказали помощь. В окопе находились солдаты Девятого Девонширского полка, который сменил наш разгромленный батальон.
Утром откуда-то появились носилки, и началось тяжкое, мучительное путешествие, — я направлялся в тыл, в мир нормальных людей. Стиснув зубы, я напряженно думал о Ровене. Я готов был перенести самые ужасные мучения, — лишь бы сохранить жизнь ради нее. Меня протащили по окопам, вынесли наверх на открытое место и положили у шоссе в ожидании санитарной повозки; приехала она только через полдня. После долгих часов страданий, казавшихся мне годами, я добрался до перевязочного пункта, где меня наспех перевязали и отправили дальше. Потом опять санитарная повозка, распределитель, эвакуационный пункт и громыхающий, тяжело ползущий, без конца маневрирующий, то и дело останавливающийся поезд, наконец госпиталь, где мне ампутировали по колено ногу.
В таком виде, искалеченный и морально опустошенный, я наконец направился в Англию — к Ровене.
10. Ночные боли
Когда лежишь неподвижно на койке бесконечно долгие часы, испытывая боль в ноге, которой уже нет, когда сон и покой, кажется, навеки тебя оставили, а впереди перспектива безрадостного «хромого» существования, мысль с необычной легкостью странствует по безбрежной, покинутой богом вселенной. Тут только я осознал, что во мне не осталось ни тени веры во все, что проповедовал мой дядя, и волей-неволей я должен приспособиться к иному, чуждому милосердия миру, жить в мире, где все, начиная с моей гноящейся раны и кончая самой далекой звездой, лишено какого бы то ни было смысла. Я не был одинок в своем разочаровании, ибо прекрасно знал, что весь мир давно утратил наивную веру. Я принадлежу к поколению, которое никогда не верило по-настоящему. Но обстоятельства сложились так, что я с особенной остротой почувствовал все это.
Нет доброго, милосердного бога, нет и бессмертия для человека в этой мрачной пустыне времени и пространства! Это, кажется, все теперь признают.
И все же добро существует.
Ведь что-то связывает меня с Ровеной. Быть может, это «что-то» непрочно и скоро исчезнет. Тем не менее оно несомненно существует и в нашей душе и вокруг нас. Это — не я и не Ровена. Это никак нельзя назвать просто удовлетворением. Это лучше меня и Ровены. Что же это, как не любовь!
Бывают моменты, когда все окружающее предстает нам в новом свете, приобретает смысл и значительность, — и все страдания, жестокость, тупость, страхи и опасения отступают на задний план. Порой нам доставляет высокое наслаждение красота, и музыка открывает нам такие глубины, что даже мой капитан со всей своей отвратительной жестокостью начинает казаться маленьким и жалким. Даже я, несчастный калека, видел преображенный мир и был потрясен его величием!
К тому же я вовсе не собираюсь умирать. Во мне еще не иссякло мужество; я не знаю, откуда оно ко мне приходит, но уверен, что где-то вне меня существует какой-то непостижимый источник.
Любовь, красота и мужество. В борьбе за них я сжимал кулаки и стискивал зубы в часы жестоких ночных страданий.
В эти долгие часы одиночества и мучений моя мысль свободно странствует по всей вселенной, но всякий раз возвращается ни с чем и делает передышку, словно завершив какой-то этап.
Увенчаются ли когда-нибудь успехом мои искания?
11. Дружественный глаз
Лежа в госпитале для выздоравливающих, близ Рикменсуорта, я стал примечать, что за мной непрерывно следит чей-то глаз.
Глаз был красноватый, карий. Он выглядывал из сложного переплетения бинтов, над которыми торчала копна каштановых волос, а пониже были видны яркий выразительный рот и большая каштановая борода. Этот глаз был почему-то поглощен созерцанием моей особы. Тело, которому принадлежал глаз, находилось в одной палате со мной.
В то время как глаз наблюдал за мной, яркий, но бесстрастный, как электрический фонарик, — его обладатель стремился со мной познакомиться и делал попытки завязать беседу. Иной раз, просыпаясь ночью, я видел; что раненый сидит на постели, повернув ко мне свою забинтованную голову так, чтобы глаз мог следить за мной из-за разделявших нас коек.
Я охотно пошел навстречу его попыткам к сближению. Этот раненый был не из тяжелых. Он уже выздоравливал. Осколок снаряда сорвал у него чуть ли не всю кожу со лба и одно веко, каким-то чудом не повредив глаза, который сейчас бездействовал, скрываясь под бинтами. Вскоре он выглянет на белый свет, целый и невредимый, и будет сиять рядом со своим собратом. Рука у этого человека была на перевязи. Тот же самый осколок ухитрился ранить его правую руку. Хирургия сделала все, чтобы спасти ему руку, но еще неизвестно, вернется ли к ней прежняя гибкость. Полифем, — так я про себя окрестил этого человека, — делал попытки писать и рисовать левой рукой. Он проявлял большую настойчивость. «С каким удовольствием я сбрею всю эту растительность, когда придет время!» — говорил он, Он твердо верил, что все мы, пострадавшие на войне, до конца дней будем окружены вниманием благодарных ближних, но уверял меня, что хочет быть независимым. Я знал, что он уже задумал вместе с другим раненым из прифронтового госпиталя организовать на паях бюро рекламы. А для этого надо быть в состоянии писать и научиться немного рисовать.