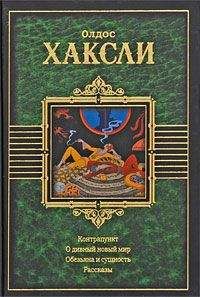Олдос Хаксли - Шутовской хоровод
Рози слушала с изумлением, которое она скрывала в совершенстве. Ах вот как! Значит, Джемс пустился на поиски приключений? Это казалось невероятным, а также трогательно-нелепым, когда она поглядела на лицо своего мужа, такое детское под маской мужественно торчащих во все стороны волос. «Интересно, — подумала она, — кто бы это мог быть?» Но она не выказала никакого любопытства. Она это очень скоро выяснит.
— Мне очень жаль, что тебе так не повезло, — сказала она.
— Теперь с этим покончено. — Шируотер сделал жест, выражавший решимость.
ГЛАВА XIX
Уйдя от мистера Меркаптана, Липиат направился прямо домой. Ясный день точно издевался над ним. Со своими блестящими красными омнибусами, белыми зонтиками, муслиновыми девушками, молодой листвой деревьев и оркестрами на углах улиц, он до отвращения был похож на увеселительную загородную прогулку. Липиату хотелось остаться одному. Он взял такси, чтобы добраться до мастерской. Конечно, это было ему не по средствам, но не все ли равно, не все ли равно теперь?
Машина медленно и как бы нехотя въехала в грязный тупик. Он расплатился, открыл маленькую дверь между широкими воротами конюшен, взобрался по узкой лесенке и очутился у себя дома. Он сел и попробовал собраться с мыслями.
«Смерть, смерть, смерть, смерть», — повторял он себе, шевеля губами, точно молился. Если он произнесет это слово достаточное количество раз, если он вполне приучит себя к этой мысли, смерть придет как бы сама собой; он познает ее, будучи еще живым, он почти незаметно перейдет из жизни в смерть. «В смерть, — повторял он про себя, — в смерть». Смерть — как колодец. Камень падает, падает, секунда за секундой; и наконец раздается звук, отдаленный, страшный звук смерти, и потом — ничего больше. Колодец в Карисбруке и осел, вертящий колесо, которое подымает ведро воды, ледяной воды… Он долго думал о колодце смерти.
За окнами в тупике шарманка наигрывала мотив «Куда деваются мухи зимой?». Липиат поднял голову, прислушиваясь. Ему стало смешно. «Куда деваются мухи?» Вопрос ставился до драматизма, до трагизма, кстати. В конце всего — последний смехотворный штрих. Он видел все это со стороны. Он представил себе самого себя, покинутого всеми, разбитого. Он взглянул на свою руку, безжизненно лежащую перед ним на столе. Недоставало только ран от гвоздей, чтобы получилась рука распятого Христа.
Ну вот, опять литературщина. Даже теперь. Он закрыл лицо ладонями. В его сознании была кромешная тьма, неизъяснимый, мучительный хаос. Это слишком трудно, слишком трудно.
Когда он решил писать, оказалось, что в чернильнице нет ничего, кроме иссохшего черного осадка. Он каждый день собирался купить себе чернил; и каждый раз забывал. Придется писать карандашом.
«Помните ли вы, — писал он, — помните ли вы, Майра, то время, когда мы поехали за город — помните? — и остановились под Спиной Борова в маленькой харчевне, которой хозяева старались придать более шикарный вид? „Отель Быка“ — помните? Как мы смеялись над Отелем Быка! И как нравились нам его окрестности! Целый мир на площади в несколько квадратных миль. Меловые карьеры и синие бабочки на Спине Борова. А у подножия холма неожиданный песок: твердый желтый песок с удивительными пещерами, вырытыми бог весть когда какими-то неведомыми разбойниками на Пути Пилигрима; и тонкий серый песок, на котором растет вереск в Паттенхэм-Коммон. И флагшток и надпись на том месте, откуда королева Виктория любовалась видом. И огромные холмистые луга вокруг Комптона и густые темные леса. И озера, и вересковые пустоши, и шотландские ели у Кэтт-Милл. Шекль-фордские леса. Там было все. Помните, как мы всем этим наслаждались? Я, во всяком случае, наслаждался. Я был счастлив эти три дня. И я любил вас, Майра. И я думал, что, может быть, может быть, вы когда-нибудь полюбите меня. Вы этого не сделали. И моя любовь принесла мне только несчастие. Помните тот замечательный сонет Микеланджело, в котором он сравнивает любимую женщину с глыбой мрамора, из которой художник может изваять совершенный образ своих грез. Если изображение окажется плохим или если влюбленный получает вместо любви смерть — что ж, значит, виноват художник и влюбленный, а не мрамор, не любимая.
Amor dungue non ha, пё tua Beltatc,
О fortuna, durezza, o gran disdegno,
Del mio mal colpa, о mio destino, о soitc.
Se dentro del tuo cor morte de pietate
Porti in un tempo с ch'l mio basso ingcgno
Non sappia ardendo trarnc altro che morte.[125]
Да, это был мой basso ingegno, мой низкий гений, не сумевший извлечь из вас любовь, извлечь красоту из материалов, из которых создают произведение искусства. А теперь вы улыбнетесь про себя и скажете: бедный Казимир, наконец-то он согласился с этим! Да, да, теперь я соглашаюсь со всем. Что я — плохой художник, что я — плохой поэт, что я — плохой композитор. Что я — шарлатан и неудачник. Что я — комический актер на героических ролях, заслуживающий всяческого осмеяния, — и осмеянный. Но ведь смешон каждый человек, когда на него смотришь со стороны, не принимая во внимание того, что происходит у него в сердце и в сознании. Можно превратить „Гамлета“ в остроумный фарс, в нем будет неподражаемая сцена, когда сын застает свою обожаемую мать на ложе прелюбодеяния. Можно сделать остроумнейшую мопассановскую новеллу из жизни Христа, противопоставляя притязания безумного равви его неудачливой судьбе. Все дело в точке зрения. Каждый человек в одно и то же время и ходячий фарс, и ходячая трагедия. Человек, поскользнувшийся на банановой корке и проломивший себе череп, описывает в воздухе при своем падении комичнейшую арабеску. А вы, Майра, — догадываетесь ли вы о том, что говорят о вас злые языки? Каким бульварным фарсом представляется другим ваша жизнь? Для меня же, Майра, вы окружены какой-то безымянной и непонятной трагедией. Что такое для них вы? Какая-то легкомысленная дамочка с занятными приключениями. А что такое я? Шарлатан, неудачник, претенциозный, хвастливый, высокопарный болван, способный писать только рекламы для вермута. (Почему это причинило мне такую боль? Не знаю. Нет никаких причин, почему бы вам не думать так, если вам хочется.) Я был всем этим — фигурой, достойной всяческого осмеяния. И весьма возможно, что ваш смех был оправдан, что ваше суждение было справедливым. Я не знаю. Я ничего не могу сказать. Может быть, я — шарлатан. Может быть, я — неискренен, хвастаю перед другими, обманываю самого себя. Говорю вам, что я этого не знаю. Теперь все смешалось в моем уме. Его ткань распалась, в нем царит ужасный хаос. Я не могу привести себя в порядок. Лгал ли я самому себе? Актерствовал ли я? Становился ли я в позу Великого Человека, пытаясь убедить себя, будто я и в самом деле великий человек? Есть ли во мне что-то или нет ничего? Удалось ли мне создать что-нибудь ценное, соответствующее моим замыслам, моим мечтам (ибо они были прекрасны; в этом я убежден). Я заглядываю в хаос моей души, и, говорю вам, я не знаю, не знаю. Но я знаю одно: что вот уже двадцать лет я разыгрываю шарлатана, над которым вы все издеваетесь; что я страдал, душой и телом — порой даже голодал — ради того, чтобы разыгрывать эту роль; что я боролся, что я с подъемом бросался в атаку, что я терпел поражение — сколько раз! — что я заставлял себя бороться, снова и снова бросаться в атаку. Что ж, пожалуй, это и смешно, если вам угодно именно так смотреть на это. Смешно, когда человек столько времени подвергает себя лишениям ради чего-то, чего на самом деле вовсе не существует. Я понимаю, что в этом есть тонкий комизм. Я понимаю это абстрактно, так сказать. Но не забывайте, что в данном частном случае я не только бесстрастный наблюдатель. И если что-нибудь меня теперь обуревает, то отнюдь не смех. Я обуреваем неописуемым страданием, горечью самой смерти. Смерть, смерть, смерть. Я повторяю себе это слово много раз подряд. Я думаю о смерти, я пытаюсь представить ее себе, я склоняюсь над ней, я смотрю туда, куда падают и падают камни, и слышу только один страшный звук, вслед за которым вновь настает молчание: смотрю в колодец смерти. Он так глубок, что не видно мерцающего глаза влаги на дне. У меня нет свечи, чтобы опустить ее вниз. Это страшно, но я не хочу больше жить. Жить хуже, чем…»