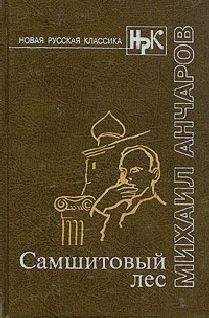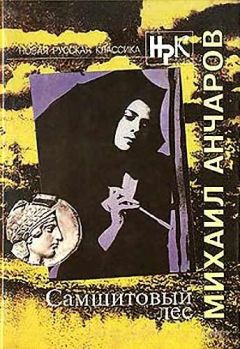Михаил Анчаров - Самшитовый лес
Это был последний день перед отъездом, и Вартанов сказал:
- Я хочу с тобой поговорить.
Они расположились на моложавой траве у каких-то давних руин. Дышали, смотрели втроем в розовое небо, в котором летали райские птички.
Вартанов сказал:
- Зачем тебе все это нужно?
- Ты про что?
- Ну ты знаешь, про что: Зачем ты живешь так, как ты живешь?
- А как надо? - спросил Сапожников.
- Надо заниматься своим делом, - сказал Вартанов. - Зачем ты лезешь в те области, где ты не специалист?
- Может быть, именно поэтому, - ответил Сапожников. - Я ничего не пробиваю из своих выдумок, я высказываю соображения. Налетай, бери. А зачем ты лез в здешние дела и махал руками? Вот и я поэтому.
- Но я же махал руками, потому что было все очевидно!
- А может быть, и мне очевидно?
- Не может этого быть, - сказал Вартанов. - Ведь я тебя знаю вот уже сколько лет. Ты теперь и в историю лезешь.
- Да, - сказал Сапожников. - Я влез в историю. Потому что без истории уже нельзя.
- Но у тебя нет достаточных знаний. Знаний. А все знать нельзя.
- Одному знать нельзя, - возразил Сапожников. - А всем вместе можно.
- Но так оно и происходит на деле. Знают все больше и больше... а разве все счастливы, - сказал Вартанов и перебил сам себя: - Это поразительно и смешно. Сегодня Станиславского не приняли бы в театр потому, что он не кончал студию имени Станиславского... а Ван Гог и Гоген считались бы самодеятельностью. А уж о Циолковском и говорить нечего. С ним и говорить не стали бы. Он не окончил Авиационного института, не служил в НИИ и не имел знания.
- Ладно... разберемся, - сказал Сапожников. - Могу еще добавить монаха Менделя, основателя генетики, каноника Коперника, основателя нынешней астрономии, химика Пастера, основателя микробиологии. Ну, этого все знают.
- И химика Бородина тоже все знают, - резвился Фролов, - и доктора Чехова тоже все знают.
- Сухопутного офицера Льва Толстого и морского офицера Римского-Корсакова, - начал смеяться Вартанов и долго смеялся.
- Искусство не бери, - вмешался Фролов. - В искусство всегда откуда-нибудь переходят. Ты науку бери и технику.
- Кончай, - сказал Сапожников. - Кончай ржать. Заболеешь. Вот уже больше сотни лет делают попытку подменить творчество образованием. А ведь образование - это чужой опыт творчества, и он часто глушит твой собственный. Чужой опыт предоставляет только выбор. Не больше. А не выход. Выход - это не поиски выбора. Выход лежит над выбором. И его надо открыть. Выход - это изобретение.
- Фактически ты занимаешься искусством, а не наукой и техникой, говорили Сапожникову. - Тебе нужно свободное творчество, а наука и техника связаны с планом. Они чересчур дорого стоят.
- Ты дай мне план, и я придумаю, как его выполнить, - отвечал Сапожников.
- Но ты же заставишь меня потом пересматривать план? А это огромная работа.
- Я могу придумать, как облегчить и ее.
Конечно, он не имел в виду одного себя. Одному везде не поспеть. Он имел в виду таких, как он, их немало, а было бы больше, если бы поверили, что человек от природы может больше, чем он может, когда он размышляет по внутренней потребности.
И тогда он не бегает от противоречия, а открывает выход, лежащий выше противоречия. Человек прислушивается к себе и слышит тихий взрыв. И ему радостно. Выше этой радости нет ничего. Потому что выход - это освобождение.
- А если у тебя не получится?.. В тебе и в этом способе чересчур большая степень ненадежности, - говорили ему.
- Это надежность, - отвечал Сапожников, - Только она по другому выглядит.
- А почему ты Мемориал не смотрел? - спросил Фролов. - Пойди посмотри... Почему ты не смотрел?
- Не пошел, - сказал Сапожников.
- Я знаю, что не пошел. Я спрашиваю почему?
- Потому.
- Ну ладно. Как хочешь, - сказал Вартанов".
И они ушли. Солнце садилось. Прелесть уходящего вечера. Вартанов и Фролов уходили по вечернему шоссе.
Оставалось еще часа три до отъезда.
Вечер был прекрасно-печальный и такой тихий, что когда Сапожников кокнул крутое яйцо об камень чужих руин, а потом стал его облупливать, то хруст скорлупы, наверно, был слышен на километры. Хруст был - как будто динозавр ел динозавра.
Они ему оставили еще и банку майонеза. который по прихоти эпохи начал становиться дефицитом, в моду вошел. А чем открыть эту банку - он не мог придумать, не мог изобрести. Представляете себе - не мог!
Значит, жизнь его прошла попусту. Убедили. Ну и что хорошего?
Сапожников не пошел смотреть Мемориал. Он старательно его обогнул и пошел в поле, туда, где виднелся на равнине зеленый кустарник и отдельные деревья. Почему он туда пошел, он сам не знал . какая-то сила притягивала его к этой зелени. А над зеленью ласково вечереющее небо. Он понял, что проиграл, понял, что жизнь его была ошибкой. И что если бы можно было первую жизнь прожить начерно, то вторую он бы жил набело. По-другому. А сейчас, наверно, надо было начинать жить по тому счету, по которому жил Генка Фролов. Фролов жил по отпускам. Он знал точно, сколько ему еще отпусков осталось до пенсии.
"И тут в городе стало известно нам, что слюнявый наш царь Перисад не может больше управлять и не может защитить нас от сарматов, и что Ксенофонт уговорил царя Перисада передать власть Митридату Понтийскому.
И тут Савмак, дворцовый раб, убил Перисада, и жители восстали и овладели Феодосией и Пантикапеем и сделали Савмака царем, но Ксенофонт остался жив, и это была ошибка.
И целый год правил царь Савмак, и это были лучшие дни для людей.
Митридат прислал Диофанта, и тот победил Савмака. Кровь текла по улицам вниз к порту. Камни трескались от пожара. Статуи богов катились по улицам в обнимку с трупами. И детски криков и криков женских не было слышно от грома щитов и мечей и воинского рева"
Принято считать, что на войне взрослеют. Это ошибка. На войне стареют. А когда возвращаются - если возвращаются, - то возвращаются к той жизни, где не бомбят и не стреляют, а ходят на работу, любят и учатся. Но как раз всего этого вернувшиеся и не умеют. И потому они в мирной жизни второгодники. Когда Сапожников вернулся с войны, к нему опять стали приходить конкретно-дефективные мысли. В войну ему тоже приходили мысли, но мало и все не о том. В войну Сапожников понял слово "Родина", а не только свой дом и Калязин и Москву. И все это вошло в его сердце и стало его собственной любовью, а не из книжки.
Когда началась война, Сапожников еще не понимал. А когда он принимал присягу на асфальтированной дорожке в парке Сокольники, где их учили маршировать среди неработающих аттракционов и закопченных киосков, тогда Сапожников вдруг понял, что у него хотят отнять все, и почувствовал тихий взрыв.